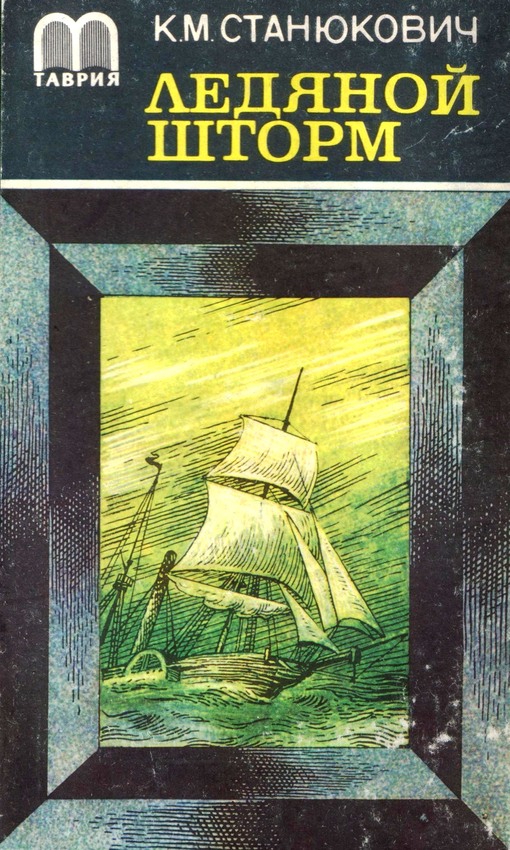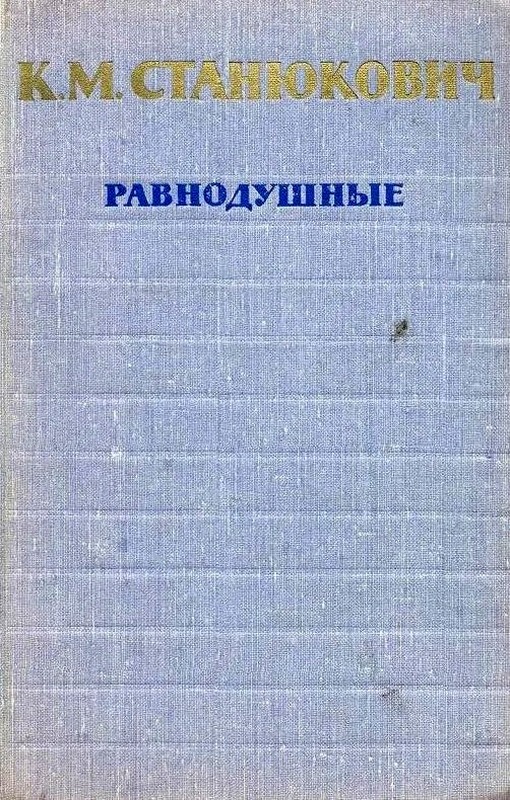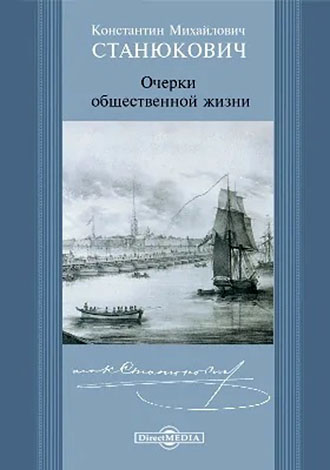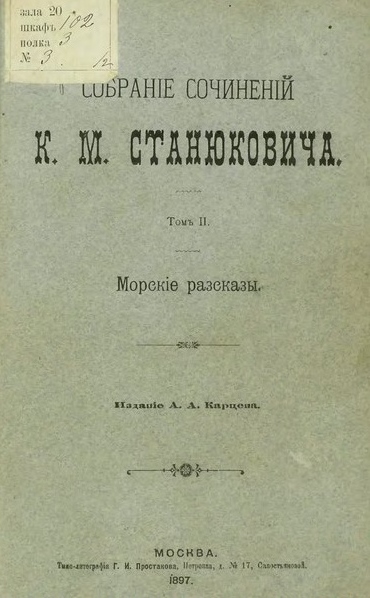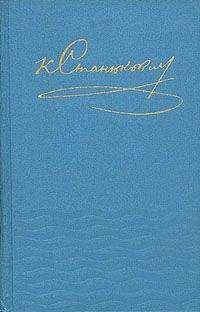лентой, надела теплое пальто с барашком на воротнике, новую шляпку, переложила из кармана золотой, только что полученный от жильца № 3, в портмоне, и выбежала на улицу.
Через минуту она с Наумкой ехала на мол.
Чем ближе подъезжала коляска к молу, тем ужаснее казалась буря.
И Матреша чувствовала себя виноватой перед Антоном, что он все еще матросом и должен идти в такую бурю.
«Могла бы уже с ним не разлучаться. Деньги-то прикоплены», — думала Матреша и взволнованно повторяла:
— Ради бога, поскорее, извозчик! Поскорей, голубчик!
Едва сдерживая безумную радость, охватившую Антона, когда он увидал коляску, в которой сидела Матреша, казалось, еще красивее и франтоватее, — он уж и не подумал больше о том, чтобы «показать себя» Матреше и искровянить ее «обманную рожу».
Но, словно бы стыдясь показать, как он обрадовался и как он ее любит, Антон встретил Матрешу, когда она взбежала на пароход, не особенно горячо и, напуская на себя беззаботный вид, пожал руку и проговорил:
— Однако и поздно, Матреша… Полагал, и не приедешь…
— Не знала, что пришел… Письмо бы послал…
— Послал…
— Не получила, Антоша, честное слово!..
Антон отдал рубль Наумке и повел Матрешу вниз, в матросскую каюту.
— Небось, торопилась?..
— Еще бы!
Матреша обвила шею Антона и крепко-крепко поцеловала его. Глаза ее блестели такой любовью, что Антон, счастливый и радостный, восторженно любовался Матрешей и, словно не находя слов, несколько секунд молчал.
И спросил наконец:
— А живешь как у своей уксусной?
— Подлая… Не хотела отпускать сегодня… Сказала, что и без спросу уеду…
— Молодца ты у меня, Матрешка.
Он крепко сжал ее руку и прибавил:
— Вернемся с рейца, к тебе забегу.
— Не ходи ты в рейц. Слышишь? Оставайся здесь. Едем! — возбужденно говорила Матреша.
И в голосе ее звучала мольба. И глаза ее так нежно ласкали.
— Никак нельзя.
— Сделай для меня… Шторм-то какой… О, господи!
— Служба. И нехорошо уйтить. И под суд уйдешь, если сбежишь… Понимаешь?
Матреша понимала не то, что уйти нехорошо, а то, что посадят в тюрьму. Но теперь она понимала, что виновата перед Антоном, когда уговаривала его не оставлять пока места рулевого на пароходе, благо жалованье хорошее, и сама не хотела бросать места горничной. Доходы соблазняли ее и после интимности с Антоном и выхода за него замуж.
Она скрывала это от него. Ведь доходы не мешали ее любви к Антону, но он бешеный, ревнивый… Вызнал бы все, живя в Ялте.
И, охваченная поздним раскаянием, она заплакала.
— Не реви, Матрешка… Чего реветь? — с необыкновенной нежностью проговорил матрос, тронутый страхом Матреши за него и сам отлично понимающий опасность шторма.
И, стараясь поцелуями вытереть слезы, он, чтоб подбодрить Матрешу, прибавил своим уверенным и бесшабашным тоном:
— И чего бояться? До Керчи дойдем, там и отстоимся… И телеграмм тебе пошлю!
Матреша улыбнулась сквозь слезы. И через минуту, хорошо знающая власть своего обаяния над Антоном, решительно и повелительно сказала:
— Как рейц кончишь, проси расчет. Слышишь? Не хочу я больше мужа матросом!
— Обязательно возьму расчет, коли ты хочешь быть при муже!..
— То-то хочу, и чтоб вместе жить, Антоша… на одной квартире… Надоело врозь… Брошу я свою Айканиху!
Обрадованный Антон сиял победоносно.
— То-то пришла в рассудок, Матрешка… Давно звал тебя вместе жить, как полагается форменно супругам… И я место приищу… в дворники поступлю, а то не здесь, так в Севастополе. Небось, тебе не нужно в людях жить.
— Придумаем, как лучше, Антоша… Деньжонки есть.
— Скопила?
— Так по малости на месте…
И, заметив, что Антон не обрадовался этим словам, прибавила, любуясь своим пригожим и ревнивым мужем:
— Не нравится, что живу в горничной?
— А ты как полагала, Матрешка? Лестная, что ли, твоя должность! Разве что только выгодная, ежели вертишься день-деньской да жильцам ублажай, чтобы были довольны… Хуже нет… И между ими есть прямо-таки подлецы! Думают — с деньгами и господа… Облестительная, мол, горничная… Так и без разговора ее упоцелует. Свиньи!
— Всякие есть… И отваживаешь! — лгала Матреша, чтоб не оскорбить Антона. — Недавно еще… в третьем номере, старый генерал приставал…
— А ты бы его в морду, Матрешка! Мол, в законе! — вспыльчиво воскликнул матрос.
— И так отстал… Не воображай… Будь покоен, обожаю своего Антошку… Милый! Вернешься только в Ялту — ну их с пансионом! — горячо говорила Матреша, охваченная страхом за мужа.
И прильнула к его губам. Потом вспомнила о золотом и сунула его Антону.
— А ты, Матрешка, знай, что, окроме тебя, ни на кого не взгляну. Завладела!..
В каюте сильно покачивало. В открытые двери донесся окрик:
— Свисток!
Антон истово и серьезно поцеловался троекратно с Матрешей, и они вышли наверх.
— До свидания, Матрешка!
— Прощай, мой желанный!
Загудел третий свисток. Матреша сбежала со сходни. Антон поднялся на мостик и стал к рулю с подручным.
Старый капитан, в дождевике поверх теплого пальто, обмотанный шарфом и в теплых английских перчатках, озабоченный, стоял на мостике, обернувшись к корме, чтобы не прозевать хода вперед при отдаче швартовов и пароход не ударился бортом о стенку мола.
Увидав своего любимца, славного рулевого, Никифор Андреевич кинул:
— Легко, Антон, снарядился. Зазябнешь. Есть полушубок?
— Есть, вашескобродие. Не успел одеться. Снимемся, надену.
— Видно, жена помешала?
— Приезжала проводить, Никифор Андреич!
Убрали сходню. Никого из посторонних не осталось.
— Отдавать швартовы! — скомандовал капитан.
И сию же минуту, как только что стали отдавать швартовы, капитан возбужденно крикнул по телефону в машину:
— Полный ход вперед!
Машина застучала, и винт забуровил. «Баклан» отходил от пристани и, раскачиваясь с бока на бок, обдаваемый верхушками волн, направился, сделав поворот налево, в море.
Капитан тихонько перекрестился и, полный решимости не оставить мостика, чтоб бороться с штормом, с угрюмым видом человека, для которого нет выхода из положения, смотрел вперед и тоскливо смотрел и слушал, как на просторе дьявольски поднимаются и ревут волны.
Придерживая зазябшей рукой шляпку, Матреша стояла у края пристани, не спуская глаз с Антона, ворочавшего рукоятку штурвала. Ужас отражался в расширенных зрачках Матреши при мысли, что Антону не вернуться. Напрасно стараясь улыбнуться, она кивала на пароход головой, чувствуя, как рыдания перехватывают горло.
Прибой грохотал, и волны гудели.
В публике ахнули. Многие крестились, точно прощались. Никто не спускал глаз с отошедшего парохода.
«Баклан» только что отошел, как качка уже «трепала» пароход. Нос его стремительно опускался, словно зарываясь в воду, и корма взлетала словно на дыбы. И мгновениями «Баклан» скрывался от глаз и снова показывался, такой маленький, метающийся, захлестываемый бешеными волнами и, казалось,