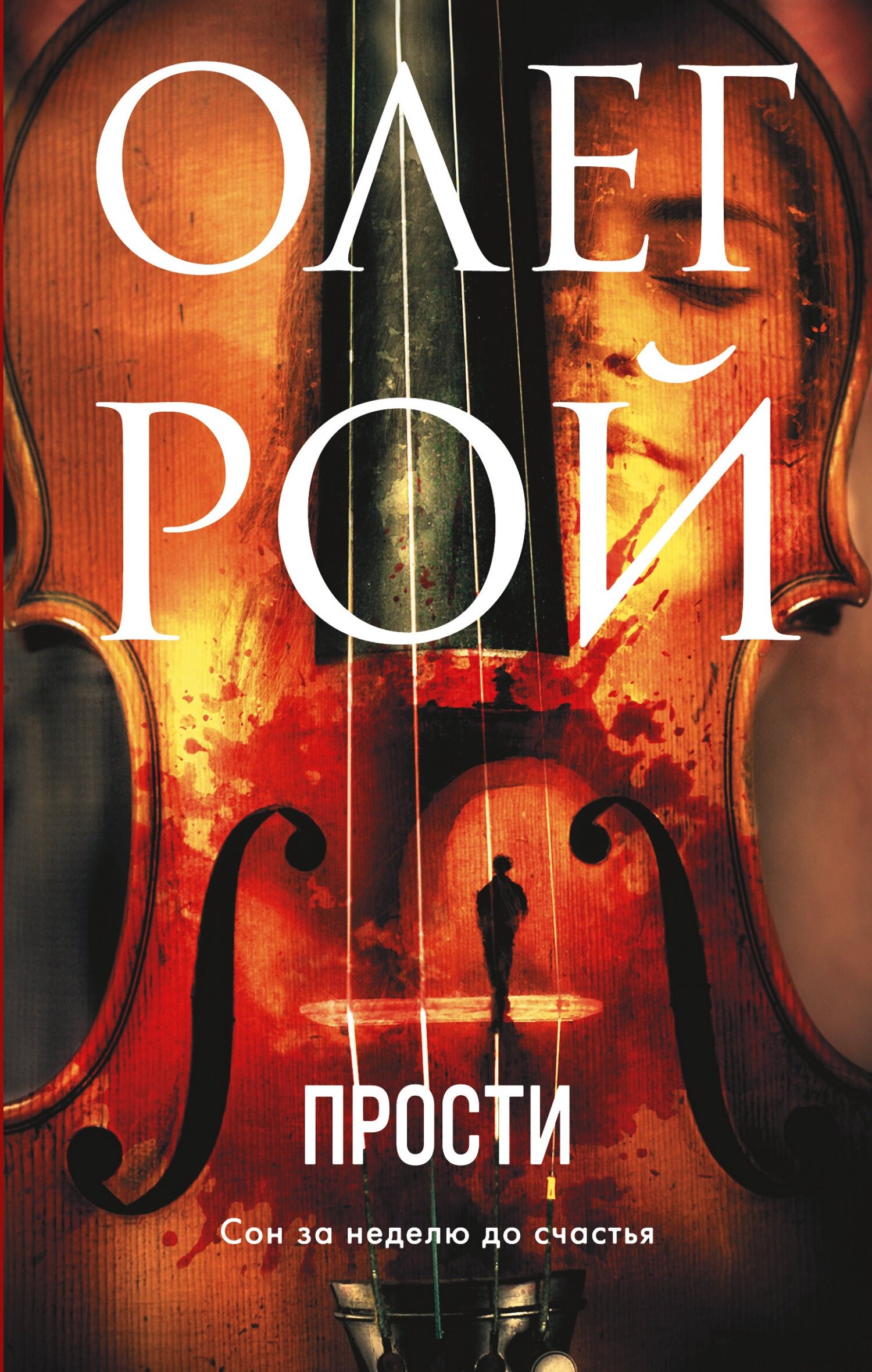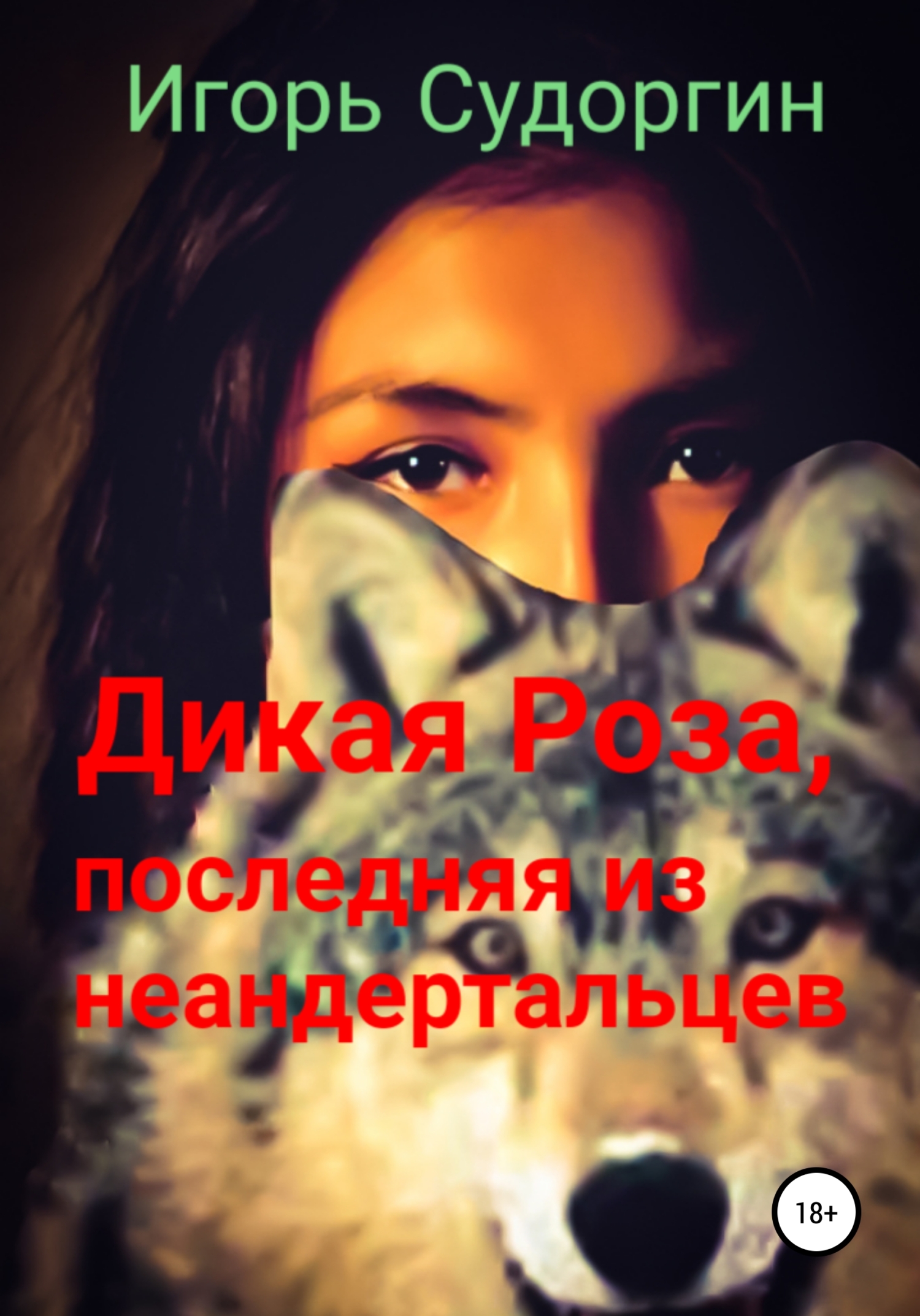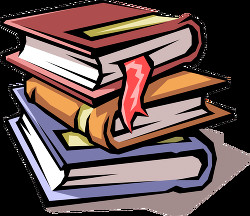младенец в библиотеке – это было круто, – Карина засмеялась. – Ай, ладно, как знаешь. Все равно ведь по-своему сделаешь. Упрямая, как не знаю кто. Римма Федоровна все надеется, что ты вернешься. Хоть преподавателем.
– Нет, Карин. Не вернусь. Тут же мелкие совсем, ты-то понимаешь, что такое для первых классов сольфеджио!
– Вдолбили, – негромко фыркнула подруга. – База и фундамент. И что мелким… Может, ты и права.
– Я права, Карин. Помнишь, я тебе про мальчишку рассказывала? Дьяков…
– М-м-м… Смутно. Он вроде о саксофоне мечтал, но их же позже набирают.
– Мне его так жалко тогда было. Сам ведь пришел, чуть не рыдает! И Назаровна с ним вместе, такая всегда ледяная, а тут, ей-богу, чуть не плачет. И не в том дело, что саксофон ему рано, но ведь пацану реально медведь на ухо наступил.
– А ты его пожалела.
– Да не его! Потому что… ну да, бывает абсолютный слух от природы, но я как раз тогда…
– Ой, вот мне-то можешь не объяснять, сама знаю про все эти экспериментальные методики, типа слух можно натренировать.
– Какие они экспериментальные, всего лишь терпение нужно. Дьякова сейчас Дюком дразнят, представляешь? Пока-то у него только клавиши, ну вот, типа новый Эллингтон. Но он уже и сакс пробует.
– Да я ж не возражаю.
– Так, может, тебе и сосредоточиться только на музыкальной школе? – Александр вступил настолько вовремя, словно они с Кариной специально этот разговор репетировали. Впрочем, может, и репетировали. Заботятся. Все боятся, как бы Олеся не перенапряглась. Смешные. Любимые.
– Саш, каждую осень мы про это говорим. Куда я из библиотеки? Хоть на полдня, хоть три раза в неделю, но надо. Ой, знаете, ребята, я ж не рассказывала… Не до того было, – она обернулась, но цветочный холмик уже скрылся за крестами и надгробьями. – Неделю назад Вадик заходил.
– Ему ж вроде уже во «взрослую» пора, нет? – Карина смешно сморщилась, делая вид, что не помнит, хотя все она, разумеется, помнила.
Олеся улыбнулась:
– Теоретически да, практически он и туда, и к нам ходит. А тут, представьте эту картину, девочку привел. На два года младше, родители весной сюда переехали, она робкая такая. И книжница, это сразу видно. А он как будто смущается и на меня поглядывает – ну как же, он ведь меня замуж звал.
– Ты ж все равно не дождалась… – усмехнулся Александр и вдруг сильно сжал ее локоть.
– Что? – она невольно остановилась.
– Ничего, – ответил он после короткой паузы и так же коротко кивнул Карине: иди, мол, мы сейчас.
Но Олеся уже сама увидела. Застыла, замерла.
За оградку могилы Бориса Суховерова держалась старушка. Сухонькая, маленькая, даже крошечная. Темный плащик, черная косынка. И две прижатые к груди розы. Белая и темная, почти черная.
Калиточка под старческой рукой подалась тихо, без скрипа, они с Александром совсем недавно наводили здесь порядок, Таисия Николаевна еще с ними приехала, сидела на лавочке, улыбалась.
Незнакомка скользнула внутрь оградки, присела возле могилы. Не на скамеечку возле заборчика, а прямо на землю, на уже прихваченную желтизной траву. Боком, поджав ноги, так сидят юные девушки. И старушка – лица ее сейчас видно не было – показалась совсем молодой. Узкая спина, выпрямленные плечи.
– Это… – прошептала Олеся, поворачиваясь к мужу.
– Она все-таки приехала. Белов упорный, и ее отыскать сумел. Она сейчас в Ногинске живет, домик у нее там. Я ей рассказал, что знал, схему кладбища даже нарисовал, и помочь предлагал, привезти, вроде и недалеко, но возраст… Отказалась. Тихо, но так, знаешь, наотрез.
Две розы, темная и белая, лежали не на черном надгробье, а рядом. Старческие губы едва заметно шевелились – Тося говорила что-то своему Борису. И все гладила, гладила прихваченную первой желтизной траву возле могильной плиты. Словно одеяло на постели больного.
Убежавшая за Кариной с Эдиком Яночка вернулась, прижалась к Олесиному боку:
– Мам, ты мне скрипку купишь?
Маленький кулачок крепко сжимал шиповниковую ветку. У самого нежного детского запястья темнела крошечная царапинка с уже подсохшей капелькой крови.