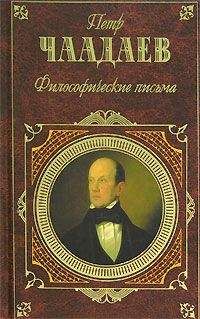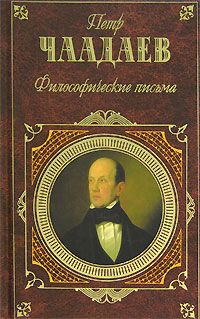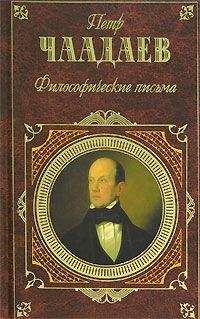Эти строки были написаны до получения вашей книжечки[332]; с тех пор был я болен и не мог писать. Благодарю за присылку. – Не стану переначинать письма; а скажу вам в двух словах, как сумею, свое мнение о вашей статье. Вам, вероятно, известно, что на нее здесь очень гневаются. Разумеется, в этом гневе я не участвую. Я уверен, что если вы не выставили всех недостатков книги, то это потому, что вам до них не было дела, что они и без того достаточно были выказаны другими. Вам, кажется, всего более хотелось показать ее важность в нравственном отношении и необходимость оборота, происшедшего в мыслях автора, и это, по моему мнению, вы исполнили прекрасно. Что теперь ни скажут о вашей статье, она останется в памяти читающих и мыслящих людей как самое честное слово, произнесенное об этой книге. Все, что ни было о ней сказано другими, преисполнено какою-то странною злобою против автора. Ему как будто не могут простить, что, веселивши нас столько времени своею умною шуткою, ему раз вздумалось поговорить с нами не смеясь, что с ним случилось то, что ежедневно случается в кругу обыкновенной жизни с людьми менее известными, и что он осмелился нам про это рассказать по вековечному обычаю писателей, питающих сознание своего значения. Позабывают, что писатель, и писатель столь известный, не частный человек, что скрыть ему свои новые, задушевные чувства было невозможно и не должно; что он, не одним словом своим, но и всей своей душою, принадлежит тому народу, которому посвятил дар, свыше ему данный; позабывают, что при некоторых страницах слабых, а иных и даже грешных, в книге его находятся страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорятся. Вы одни относитесь с любовию о книге и авторе: спасибо вам! День ото дня источник любви у нас более и более иссякает, по крайней мере в мире печатном: итак, спасибо вам еще раз! На меня находит невыразимая грусть, когда вижу всю эту злобу, возникшую на любимого писателя, доставившего нам столько слезных радостей, за то только, что перестал нас тешить и, с чувством скорби и убеждения, исповедуется пред нами и старается, по силам, сказать нам доброе и поучительное слово. Все, что мне бы хотелось сказать вам на этот счет, вы отчасти уже сказали сами несравненно лучше, чем бы мне удалось тоже выразить, особенно на языке, которым так бессильно владею; но одно, о чем намекал уже в первых своих строках, кажется, упустили из виду, а именно высокомерный тон этих писем. Я уже сказал, какому влиянию его приписываю; но нельзя же, однако, и самого Гоголя в нем совершенно оправдать, особенно при том духовном стремлении, которое в книге его обнаруживается. Это вещь, по моему мнению, очень важная. Мы искони были люди смирные и умы смиренные; так воспитала нас церковь наша. Горе нам, если изменим ее мудрому ученью! Ему обязаны мы всеми лучшими народными свойствами своими, своим величием, всем тем, что отличает нас от прочих народов и творит судьбы наши. К сожалению, новое направление избраннейших умов наших именно к тому клонится, и нельзя не признаться, что и наш милый Гоголь, тот самый, который так резко нам высказал нашу грешную сторону, этому влиянию подчинился. Пути наши не те, по которым странствуют прочие народы; в свое время мы, конечно, достигнем всего благого, из чего бьется род человеческий; а может быть, руководимые святою верою нашею, и первые узрим цель, человечеству богом предназначенную; но по сию пору мы еще столь мало содействовали к общему делу человеческому, смысл значения нашего в мире еще так глубоко таится в сокровениях провидения, что безумно бы было нам величаться пред старшими братьями нашими. Они не лучше нас; но они опытнее нас. Ваша деловая петербургская жизнь заглушает вас; вам не все слышно, что гласится на земле русской. Прислушайтесь к глаголам нашим; они поведают вам дивные вещи. В первой половине статьи вашей вы сказали несколько умных слов о нашей новоизобретенной народности; но ни слова не упомянули о том, как мы невольно стремимся к искажению народного характера нашего. Помыслите об этом. Не поверите, до какой степени люди в краю нашем изменились с тех пор, как облеклись этой народною гордынею, неведомой боголюбивым отцам нашим. Вот что меня всего более поразило в книге Гоголя и чего вы, кажется, не заметили. Во всем прочем с вами заодно. Поклонитесь Тютчеву, княгине сердечный мой поклон; сыну вашему une bonne poignée de main.[333]
Басманная. 29 апреля 1847 г.
Басманная, 10 мая
Я в восхищении, дорогой*** (Тютчев)[335], что вы удовлетворены моим портретом[336]. Он должен был быть литографирован в Москве, но так как здесь не нашлось хорошего литографа, то он был послан в Петербург, и я полагал, что вы столь же охотно примете оригинал, как приняли бы и копию. Если бы вы согласились принять на себя труд справиться, какой литограф наиболее славится в Петербурге и какова его цена, и сообщить мне об этом в двух словах, я был бы вам бесконечно обязан. Как вы знаете, не раз ко мне обращались с просьбой дать мое несчастное изображение: поэтому поневоле приходится постараться пойти навстречу этой настойчивой приязни. Я собирался писать об этом Вяземскому в момент получения вашего письма: как раз намереваюсь писать ему с тем, чтобы похвалить его статью о Гоголе[337]; я нахожу ее отличной в противность мнению почти всей нашей литературной братии, озлобление которой против этого несчастного гениального человека не поддается описанию. Один только Хомяков остался ему или, лучше сказать, самому себе верен.
Так как вас несомненно интересуют наши домашние дела, то вам не безразлично будет узнать, что последний сейчас ввязался в очень серьезную полемику с Грановским по поводу Бургиньонов и Франков[338]. Как вы видите, мы не теряем своего времени по-пустому, и вопросы текущего дня занимают нас не менее, чем остальной мир. Правда, нам не хватает времени слишком много возиться со всеми нелепостями, происходящими в Европе, такими, как, например, прусские дела и другие им подобные, но у нас его больше, чем надо, чтобы достойно готовиться, в качестве нового народа божия, к великой предназначенной нам миссии, руководить умственным и общественным движением человеческого рода. Многозначительному спору, о котором я вам сообщаю, придает еще большую значительность то, что с этим связано нравственное положение друга нашего Хомякова, среди представителей одной с ним масти, а вы знаете, каково это положение[339]. Впрочем, что бы с ним при этом ни случилось, он, по моему мнению, всегда сохранит ту долю уважения, которой заслуживает, потому что, по счастью, в людях всегда имеется нечто более важное, чем их знание.
Что сказать мне про себя и про свое жалкое здоровье? Мы постоянно раскачиваемся между благом, которое я не почитаю благом, и злом, которое, говорят, вовсе не есть зло. Я прозябаю, таким образом, в обманчивости духа и плоти. Все это, как вы легко поймете, делает меня отнюдь не забавным для других, за исключением редкой дружбы, забредшей в глушь и столь же упорной, как ваша, но приходится поневоле мириться с тягостью обманного существования, которое сам по себе создал. Ваша дружба, несмотря на разделяющие нас пространства, составляет одно из самых моих отрадных утешений, а ныне, ввиду обещанного нам близкого вашего прибытия в наши широты, я прибавлю еще, что оно поддерживает во мне самую пленительную надежду. Приезжайте же, вы на деле убедитесь, какое важное значение могут иметь подлинные симпатии одного разумного существа для другого такого же или по крайней мере таким когда-то почитавшегося.
Но только торопитесь, потому что, чем больше я об этом думаю, тем сильнее убеждаюсь, что пора мне сгинуть со света тем или другим путем, через бегство или могилу. Что ни день, я вижу, как возникают вокруг меня какие-то новые притязания, которые выдают себя за новые силы, старые обманы, которые принимаются за старые истины, шутовские идеи всякого рода, которые признаются серьезными делами; и все это принимает осанку авторитета, власти, высшего судилища, выносит вам приговоры осуждения или оправдания, лишает вас слова или разрешает говорить. Чувствуешь себя как бы в исправительной полиции в каждый час своей жизни. Что прикажете делать в этом новом мире, где ничто мне не улыбается, ничто не протягивает мне руку и не помогает жить? В конце концов, я все же предпочитаю погибнуть от скуки, порожденной унынием одиночества, чем от руки тех людей, которых я так любил, которых я и теперь еще люблю, которым я служил по мере своих сил и готов был бы еще послужить.
Прощайте, дорогой друг. Верьте, прошу вас, моему чувству глубокой привязанности, с нетерпением жаждущей отрадного общения с вами.