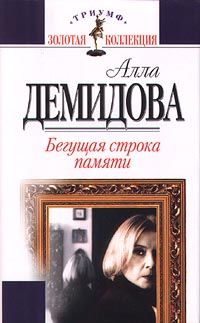Однажды Визбор зазвал нас с Ларисой на лыжную базу под Москвой. Там все так красиво катались на лыжах! А мы с Ларисой шли пешком, бежали за какими-то розвальнями, чтобы нас подвезли, а нас не подвезли. И мы чувствовали себя такими ущербными, никому не нужными и что жизнь — проходит мимо. Вот они — на лыжах, они собираются, выпивают, дружат. А мы все время работаем, работаем, а когда выбираемся на чужой праздник — он нам не по душе, мы в него не вписываемся…
Прошло много лет. Вечер памяти Визбора. И вот один из его друзей-горнолыжников выходит и говорит: «Я сейчас спою песню, которую мало кто знает. Она посвящена Алле Демидовой. Юра ее написал на паруснике Жени Фридмана во время съемок». И спел песню, которой я до этого не слышала, «Черная монашка мне дорогу перешла…».
ЧЕРНАЯ ШАЛЬ, ИЛИ ПЕНИЕ ОБОЖЖЕННЫМ ГОРЛОМ
Проезжала я недавно мимо своего родного Училища имени Щукина. Перед входом роилась толпа мальчишек и девчонок, мечтающих стать артистами. Представила их волнение и немного позавидовала.
Первый и, пожалуй, единственный раз я почувствовала себя актрисой, когда поступила в училище и перед началом занятий поехала отдыхать на юг. Мне казалось странным, что люди не обращают на меня никакого внимания. А меня просто распирало от сознания, что я теперь актриса.
На первом курсе все кажется легче, критикуешь наотмашь, оцениваешь только результат по двухбалльной системе «хорошо — плохо».
Каждый недостаток своего характера оберегался как проявление индивидуальности. Следили только за своим внутренним состоянием в любых проявлениях: предположим, у меня случилась какая-то неприятность, уж не помню какая, но хорошо помню, как плачу, неожиданно подхожу к зеркалу и смотрю, как я это делаю. (Кстати, я до сих пор не считаю зазорным для актера смотреть на себя со стороны. Человек, анализирующий свои поступки, как бы раздваивается: несовершенство, то есть то, что он есть на самом деле, и совершенство — то, чем он должен стать.) И говорили только о себе. Эту черту я замечаю и сейчас почти у всех актеров — много говорить о себе. Правда, зачастую это не от самомнения, а от подсознательной оценки тех или иных поступков, фиксации на внутренней оценке своего состояния.
Там же, в училище, я помню показ молдавской студии. Объявили, что кто-то будет петь «Черную шаль». Мы переглянулись, поморщились — опять эта надоевшая эстрадная цыганщина. Вышла на сцену девушка невысокого роста. А лицо? Сейчас бы не вспомнила. Ничем не примечательна. Без единого жеста, на «скрытом» темпераменте пропела. Да так, что мурашки до сих пор от воспоминания. Я до сих пор помню, как она пела и как мы потом, забыв про свою «гениальность», кричали «браво» и «бис». Я раньше не понимала, как Федя Протасов мог заслушаться цыганских песен, а сейчас, если бы я точно знала, что эта девушка мне споет так, как она пела тогда, я бы бросила все свои дела и помчалась в Кишинев, где и обосновалась та молдавская студия. Образовав театр «Лючиферул». Но меня останавливает боязнь потерять то ощущение. А вдруг это была только минута? Недавно услышала по радио, как Мария Лукач поет песню Рождественского про двух сыновей: «Повезло им, повезло им, повезло!» На таком выхлесте! Срывающимся голосом. Как слышу плачу. Почему? Ведь крик как высшая точка самовыражения — это вчерашний день. Театр сейчас играет в другие игры. Зрителя больше интересуют нюансы, тонкий рисунок роли, глубина прочтения драматургического материала. Но я ничего не могу с собой сделать и всегда плачу. Когда слышу крик боли.
Как-то я читала у Лорки об одной знаменитой андалузской оперной певице. Однажды со своим другом она пришла в кабак, ее узнали и попросили спеть. Она согласилась и пела, как никогда, прекрасно. Но присутствующие молчали и даже иногда раздавался свист. Тогда она выпила стакан огненной водки и в бешенстве стала петь сорванным, обожженным горлом. Триумф!
Пение обожженным горлом. Самоотверженность и безоглядность таланта.
Сегодня почти не играют трагедии. А если и играют, то как драмы — с логическим обоснованием поступков, с понятным переходом из куска в кусок. Может быть, возникла защитная реакция у зрителей — после мировых войн, заказных убийств, вечной политической лихорадки. Сегодня человек сидит у себя в халате дома, пьет чай и смотрит по телевизору, как на его глазах убивают по-настоящему. И что после этого может сделать один актер в театре? Со своим слабым голосом, несовершенной пластикой и сомнениями, разъедающими душу. Каким чудом достичь, того, когда «расплавленный страданьем крепнет голос и достигает скорбного накала негодованьем раскаленный слог»?
Необходимая предпосылка трагедии в театре — совместное творчество зрителя и театра, готовность зрителя услышать трагическую ноту, попытаться не «понять», а «почувствовать» то, что зачастую словами трудно объяснить, уметь в малом увидеть общее, ведь, как писал Мандельштам, «трагическое, на каком бы малом участке оно ни возникало, неизбежно складывается в общую картину мира».
У меня отношение к смерти — странное. Помните у Ахматовой:
Смерти нет — это всем известно,
Повторять это стало пресно,
А что есть — пусть расскажут мне.
Для меня ее нет. И те, кто уходит, все равно остаются со мной, они для меня так же живы. Но для других-то они ушли, вспоминают их все меньше и меньше. И мне хочется о них рассказать, потому что эти люди — не только отражение своего времени, но в какой-то степени и мое отражение.
Когда я впервые увидела Ларису, я «увидела» ее главное скрытое чувство — добиться в жизни во что бы то ни стало признания. При первом знакомстве я воспринимаю людей подсознательно. Потом это ощущение уходит, человек ко мне поворачивается той своей стороной, которую хочет мне показать. Но свое первое чувство от Ларисы я помню. Я тогда еще отметила ее огромную выдержку и силу воли, умение владеть собой. И, как ни странно, семейственность — уважение и почитание родственных связей.
После ее «Крыльев» прошло уже довольно много времени, и сделать «Ты и я» для нее было, конечно, важно. Хотя я и не понимала, для чего Ларисе этот «легкий» и, кстати, недоработанный сценарий Шпаликова. Да и тема была не Ларисина. Потому что Лариса человек с глубоким трагическим мироощущением, а «Ты и я» — фильм про интеллигенцию, весь на полутонах: полутона интеллигентного человека, запутавшегося в отношениях. Но Лариса обожала талантливых людей, она их как бы коллекционировала — впитывала, выжимала, а потом забывала. В данном случае она «вцепилась» в Шпаликова, и он дал ей «рыбу» своего сценария.
Если бы в главной роли снималась Белла Ахмадулина, может быть, фильм повернулся бы по-другому. Ее голос, ее манерность сыграли бы на форму. (Как известно, форма — наиболее удобный и выразительный способ говорить задуманное. Я очень часто вспоминаю слова одного из Богов в «Добром человеке из Сезуана»: «Блюди форму — содержание подтянется». И почти всегда после этих слов в спектакле «Таганки» раздавались аплодисменты.)
Такой зашоренности в работе, как у Ларисы, я не встречала больше ни у кого. Она видела только своих актеров, только свой материал — больше для нее ничего не существовало. Когда мы, например, поехали снимать в Ялту, она поехала в старом поношенном пальто, в котором всегда ездила на подмосковную натуру. Но это же Ялта! У нас было много свободного времени, мы ходили в рестораны, гуляли по набережной, и Лариса — в своем «натурном» пальто. «Лариса, ну почему ты его надела?!» — «Но мы же поехали на натуру». И, конечно, в водоворот Ларисиной жизни закручивались и наши жизни тоже.
Мы пропустили осеннюю московскую натуру, и надо было доснимать в похожих подворотнях Ялты. Тогда на «Таганке» я играла в основном не главные роли, а эпизоды и массовку, но Любимов все равно меня не отпускал. Сниматься приходилось «между струйками» — на один день надо было прилететь в Ялту, чтобы потом улететь на спектакль. Сколько это угробило здоровья! Но тогда я думала, что его хватит надолго…
И вот — лечу в Ялту. Из-за снегопада несколько часов сижу в аэропорту в Москве. Наконец взлетели. На моей шубе оторвался крючок, в сумке почему-то оказалась иголка с ниткой. Я стала пришивать, входит стюардесса и спрашивает: «Что вы делаете?!» — «Пришиваю крючок». — «Хуже приметы в самолете не бывает». А я в приметы верю, поэтому так и осталась в обнимку с этой шубой (я даже боялась ее куда-то положить), из которой торчала иголка, как грозящий ребенку палец. Летели мы ужасно. Проваливались в какие-то ямы, самолет трясло, я думала: «Вот это все — моя иголка…» Наконец сели, причем садились несколько раз, подпрыгивая. Всех вымотало ужасно.
Я все-таки дошиваю свой крючок — иголка-то торчит. Выходит стюардесса и, глядя мне глаза в глаза, говорит: «Мы приземлились в аэропорту города Киева». А летели мы в Симферополь…