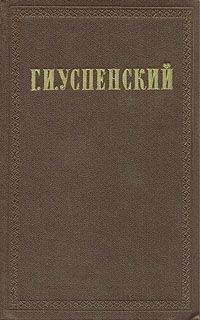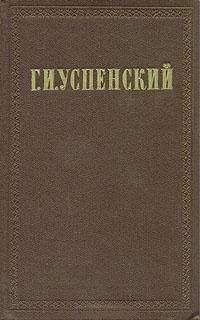Таким образом, благодаря эпизоду с теленком, для меня раскрылось значение в мире крестьянства такой стороны земледельческого труда, которой до сих пор я не придавал почти никакого значения. Для меня стало совершенно ясным, что творчество в земледельческом труде, поэзия его, его многосторонность составляют для громадного большинства нашего крестьянства жизненный интерес, источник работы мысли, источник взглядов на все окружающее его, источник едва ли даже не всех его отношений частных и общественных. Множество явлений русской жизни, русской действительности оказываются необъяснимыми или объясняются, фальшиво, ложно и досадно терзают вашу наблюдательность потому только, что источник этих явлений отыскивается не в особенностях земледельческого труда, сотканного из непрерывной сети на первый взгляд ничтожных мелочей, а в чем-либо другом. Да не подумает читатель, что мы совсем устраняем «каторжную сторону труда» и желаем представить этот труд в виде непрестанного удовольствия. Но об этой стороне труда, равно как и о крупнейших особенностях крестьянской жизни, вытекающих из условий его труда, поглощающего не только силы его, но всю почти работу его мысли, мы сейчас и будем говорить с читателем.
«— Не суйся!..»
Признаюсь, когда эти слова мелькнули в моем сознании, мне стало как-то холодно и жутко, ибо если я не буду соваться, то что ж я буду делать, спрашивается? До сей минуты мне, напротив, самым определенным образом представлялось, что я и предназначен-то собственно для того, чтобы соваться в дела Ивана Ермолаевича, и что самый лучший жизненный результат, которого я могу желать, — это именно быть «потребленным» народною средою без остатка и даже без воспоминания, подобно тому как не вспоминается съеденный час назад кусок бифштекса. Во имя этой необходимости быть съеденным без остатка я питал глубокое почтение к тем людям, которые, стараясь всячески смирить в себе некоторые эгоистические замашки и привычки — наследие крепостного права, — не страшатся делать усилия для того, чтобы вбить себя в народные интересы, точно так, как вбивают толстый пыж в узкое дуло ружья, и которые, так сказать, заколачивают себя «туда», говоря: «Нет, любезный, у меня не уйдешь!.. Пора перестать топорщиться и разбрасываться по сторонам, а не хочешь ли вот эдак, маленьким комочком… да шомполом! да шомполом!..» И вдруг — «не суйся! Убирайся вон, делать тебе здесь нечего и соваться не в свое дело незачем!»
Эти мысли ошеломили меня, ибо доказывались целым рядом самых неопровержимых фактов, почерпнутых из самых подлинных жизненных явлений деревенской действительности. Пораженный той мыслью, что Иван Ермолаевич, кроме видимых миру слез, бедствий, недоимок, всевозможных притеснений и других мрачных черт, рисующих его жизнь как беспрерывное мучение и каторгу, имеет в самой глубине своего существования нечто такое, что дает ему силу переносить все эти невзгоды целые тысячелетия, и притом с такою непреоборимою безмолвностью, которая заставила умиравшего поэта почти в отчаянии воскликнуть: «не внемлет он и не дает ответа», — словом, пораженный мыслью о существовании в жизни Ивана Ермолаевича того, что я не мог иначе определить, как поэзией труда, я решился самым внимательным образом (насколько, конечно, это возможно постороннему человеку) проникнуться и смыслом этого труда и выражением его в обыденных явлениях жизни Ивана Ермолаевича, словом, решился проследить его жизнь и жизнь всей его семьи в мельчайших подробностях ежедневного обихода — и вот тут-то на каждом шагу, буквально каждую минуту, меня стало преследовать роковое «не суйся!»
Не говоря уж о том, что жизнь Ивана Ермолаевича, что называется, «полнехонька» впечатлениями до краев, что, начиная с той минуты, когда он подымется до свету (конечно, вместе со всеми домашними), и кончая непробудным сном после целого дня работ и забот, у Ивана Ермолаевича фактически нет времени слушать мои разглагольствования, нет даже возможности уделить для них каплю внимания, — меня с моей разглагольственной позиции сбивала на каждом шагу, кроме сказанного, внутренняя стройность его жизни, такая стройность, в которой мне нечего ни прибавить, ни убавить. Поверхностного, самого легкого наблюдения над ежедневным обиходом описываемого мною крестьянского двора достаточно было для того, чтобы воочию убедиться, до какой степени между мною и Иваном Ермолаевичем велика разница в смысле этой внутренней стройности. В мыслях, поступках и словах Ивана Ермолаевича нет ни единого, самого мелкого, который бы не имел основания самого реального и для Ивана Ермолаевича объяснимого, — тогда как моя жизнь постоянно, на каждом шагу, переполнена и мыслями и поступками, не имеющими никакой связи… Спрашивается: зачем, например, мне знать, что испанская королева разрешилась от бремени? А я вот знаю, читаю об этом; зачем мне знать о докторе Таннере, о генерале Сиссэ, проворовавшемся с госпожой Каула, о том, что новая пьеса Сарду пойдет не во Французской Комедии, а в театре Гимназии? и т. д. А я между тем именно этими-то газетными лохмотьями ежедневно утомляю собственное внимание, и зачем? чтобы немедленно забыть, чтобы завтра целые полдня употребить опять же на эти бессвязные, утомительные мысли. Положим, что, проглотив газету, я найду две-три строки, интересных для меня в точно той же степени, как бывает интересно и Ивану Ермолаевичу, но зато сколько я ежедневно приму в свою душу, вместе с интересом двух-трех строк, всякого ненужного хлама, вздора… ненужного, бессодержательного… В жизни и мысли Ивана Ермолаевича нет ничего подобного, ни одного самого крошечного пустого места, и если он поинтересовался как-то раз чудовищем, о котором публиковали в газетах, то не просто так, как интересуюсь я, читая о том, что на Васильевском острове в 5-й линии ребенок вывалился из окна, что императрица Евгения поседела или что Егарев пригласил новую певицу и т. д., а совершенно с определенной целью: не написано ли у чудовища на спине чего-нибудь насчет земли… Таким образом, при самых первых поверхностных наблюдениях мне стало ясным, что пестрота ежедневного обихода жизни Ивана Ермолаевича наполняет его существование фактически, и наполняет плотно, без прорех, без пустых мест. Но стройность, обнаружившаяся в глубине этой пестроты, внутренняя цельность и резонность, из которых эта ежедневная пестрота жизни слагается и на которой держится, были для меня чем-то поистине уничтожающим. Широта и основательность этой стройности выяснялись мне по мере того, как я положил в основание всей организации крестьянской жизни, семейной и общественной, — земледельческий труд, попробовал вникнуть в него подробнее, объяснить себе его специальные свойства и влияния на неразрывно связанного с ним человека. При этом, во-первых, я должен был корнем этих влияний признать природу. С ней человек делает дело, непосредственно от нее зависит; чему же она его учит?
Она учит его признавать власть, и притом власть бесконтрольную, своеобразную, капризно-прихотливую и бездушно-жестокую. В самом деле, чего только не выделывает природа над Иваном Ермолаевичем! По какому-то необъяснимому злорадству она, например, иссушает его ниву, буквально облитую потом. С беспощадною жестокостью она не день, не два, а два-три месяца подряд томит его ежеминутно, ежесекундно мыслью о голоде, о нужде, томит и молчит… Ежедневно она без всякого милосердия сулит ему дождь, урожай; с утра собираются тучи, ходят в небе станицами, громоздятся несметными массами, глыбами, сулят благодать и счастие… Нужно быть на месте Ивана Ермолаевича, чтобы понять ту чисто физическую жажду к этой туче, к этой воде, которую сулит небо, чтобы понять его страстную муку, страстную внимательность к этому небу, к этой туче… Вот, наконец, она собралась, вот она тронулась и обложила небо со всех сторон, она гремит и сверкает, она дышит влагою; Иван Ермолаевич даже собственным горлом чувствует эту воду и влагу, жаждет, жаждет — и ничего! Прошла туча! Запылила, помяла иссыхавшую ниву и ушла, бросив три-четыре громадные капли дождя точно на зло, на смех… И все это с безбожнейшим, несправедливейшим равнодушием… Терпи, Иван Ермолаевич! И Иван Ермолаевич умеет терпеть, терпеть, не думая, не объясняя, терпеть беспрекословно. Он знаком с этим выражением на факте, на своей шкуре, знаком до такой степени, что решительно нет возможности определить этому терпению более или менее точные пределы.
Но, пришибая таким образом человека, вкореняя в его сознании идею о необходимости безусловного повиновения, вкореняя эту идею как нечто неизбежное, неотвратимое, нечто такое, чего нельзя ни понять, ни объяснить, против чего немыслимо протестовать, — та же самая природа весьма обстоятельно знакомит Ивана Ермолаевича и с удовольствиями власти, то есть дает ему возможность и самому (несмотря на то, что он в рваном тулупе и рваных лаптях) ежеминутно испытывать те же самые удовольствия своего собственного могущества, которые знакомы только монарху и никому другому. Никакой чиновник, расточающий «строжайшие» предписания и свирепствующий над своими подчиненными, не понимает удовольствия «властвовать» в той степени, в которой понимает это Иван Ермолаевич. Самое большее, чего может достигнуть всякая второстепенная, самая «строжайшая» власть, — это титул «бешеной собаки», который несомненно ему дадут подчиненные, обыкновенно ненавидящие такую бешеную собаку, подчиняющиеся ей из-за нужды, из-за копейки и решительно не дающие другого объяснения своему подчинению. Да и сам «строжайший» начальник едва ли в глубине души также не именует себя «собакой», находя в этом определении и удовольствие, то есть будучи доволен тем, что вот он, благодаря бога, добился-таки высокого права быть бешеной собакой, рвать, метать и лаять… Совсем не такие удовольствия власти испытывает Иван Ермолаевич. Не «равнодушная», а бессердечная природа, балуя беспрекословно повинующегося ей Ивана Ермолаевича, дает ему в руки власть не бешеной собаки, а, повторяем, власть монарха, такого монарха, который повелевает только потому, что он монарх; он повелевает, не допуская даже мысли о праве повелевать, да и подданные его также не имеют привычки размышлять о том, почему именно они оказались подданными? Подданные Ивана Ермолаевича не могут задаваться такими вопросами потому же, почему и он, подданный природы, не может задаваться ими. Таким образом, и Иван Ермолаевич и его подданные находятся друг к другу в самых естественнейших отношениях. «Строжайшему» начальству необходимо свирепствовать, лаять и кусаться, чтобы знать, что «меня, мол, боятся» и, слава богу, считают, наконец, за собаку; Ивану Ермолаевичу ничего этого не надо. Иван Ермолаевич «просто» знает, что ему нельзя, невозможно не властвовать, а подданные также знают, что им нет другого дела, как повиноваться. Спрашивается, что бы могла, например, свинья сделать с своими поросятами, если бы Иван Ермолаевич не отбирал их у ней и не продавал? Самое большее, на что она способна в качестве самостоятельного деятеля, это съесть своих детей, чтобы не далеко шляться за кормом, чему бывали и бывают примеры. Что бы могла придумать курица относительно собственных яиц, если бы Иван Ермолаевич, проникнувшись ложными гуманными теориями, не стал вытаскивать из кошелки, на которой она сидит, ее яйца? Не возьмет яиц Иван Ермолаевич, придет собака «Милорка» и выпьет их; да наконец, если бы во имя гуманных теорий Иван Ермолаевич и преследовал «Милорку», отгоняя ее от беззащитных кур, что бы было, если бы последние беспрепятственно выводили своих цыплят? Ничего больше как то, что цыплята, придя в возраст, немедленно же принялись бы нести те же яйца, точь-в-точь такие, из каких они сами появились на свет, и т. д. Понуждает ли Иван Ермолаевич своих подданных на поприще такого беспрекословного повиновения и службы? Нисколько. Он их не бьет, не пишет им строжайших предписаний, ни кур, ни свиней не распекает; не употребляет никакого насилия — словом, не делает ничего, что должна делать самая строжайшая власть. Он «просто» не может даже не властвовать; не стриги он овцу каждогодно — ведь она опаршивит и издохнет; стригут ее для ее же собственной пользы; корова сделается больна, если ее не доить, и притом для ее же собственной пользы необходимо доить так, чтобы у нее не оставалось «ни капли» собственно ей принадлежащего молока; лошадь, освобожденная от хомута, есть не что иное, как саврас без узды, на которого, просто смотреть противно: жрет, лежит и опять жрет, да кроме того не имеет определенной жизненной цели, а шляясь по свету без определенных занятий, легко может забрести в болото или распороть брюхо о старый пень в лесу и издохнуть таким образом без малейшего смысла. И вот, надседаясь изо всех сил, кудахчут целый божий день куры и несутся для Ивана Ермолаевича; для Ивана Ермолаевича целый божий день, всю жизнь старается свинья, питаясь бог знает чем, влачась в грязи по горло и не получая ни малейшего поощрения, ни похвал, ни наград, кроме ударов палкой всякий раз, когда морда ее приблизится к чему-либо в самом деле питательному. Для Ивана Ермолаевича целую жизнь, не смыкая челюстей ни на мгновение, жует, жует, жует корова, для него же она беспрестанно беременна, для него же обрастает шерстью овца, для него же бьется лошадь — и все это беспрекословно, буквально без ропота и протеста, даже без тени сомнения или мысли в законности такого непрестанного подчинения. Точно так же и Иван Ермолаевич, без малейшей тени сомнения в своем праве, стрижет овцу, стегает и запрягает лошадь, выгребает из куриных кошелок яйца, доит и отбирает у коровы молоко, теленка и т. д. до бесконечности. Спрашивается: может ли Иван Ермолаевич, получающий знания непосредственно от природы, иметь хотя малейшую тень сомнения в неизбежности самой абсолютнейшей, самой прихотливой, а главное, ничем не объяснимой власти? Он знает это потому, что прихоти и капризы ее испытал на своей шкуре, в виде гнета природы; он знает ее из собственного опыта над своими бескорыстными подданными. Почему его гнетет природа, почему она его мучает, разоряет, почему она ему благодетельствует или почему он должен обирать у кур яйца, а куры должны их нести — все это неизвестно, все это тайна; но что это так, что без этого нельзя, в этом может ли быть хоть малейшее сомнение?