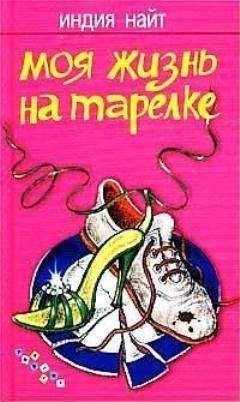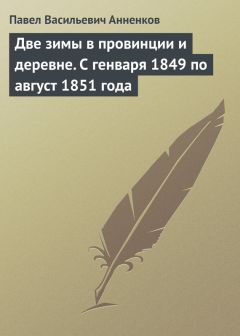Доктор, утешая меня, напомнил мне еще одно понятие: родина. Я думаю, так утешать могут только посторонние люди. Мне начинает казаться, что любовь к родине — какое-то кошачье чувство: кошки привыкают к месту, к обстановке, к географии…
Но самое страшное в жизни — это бессонница…»
Прежде всего появляется лицо совершенно случайное, не имеющее прямого отношения к событиям, — пупырявый газетчик Петька с Рыбацкой улицы Петербургской стороны. Шныряя по Малому проспекту и радуясь трескотне пулеметов, Петька нашел на панели, у деревянного забора, револьвер. Петька огляделся хорошенько, присел на корточки, прикрыв находку полами своего пальтишки, и незаметно втянул револьвер за пазуху.
«Пойду в юнкерей палить», — решил Петька, изнывая от восторга, и кинулся в ту сторону, где шел главный бой и куда сейчас, со стороны Спасской улицы, подвозили пушку. Добежав до угла, Петька опустился для важности на одно колено, вынул наган и прицелился. Сердце его горело счастьем свершения. Но в эту самую минуту за Петькиной спиной остановился швейцаров сын Степан Топориков, в драном пиджачном костюме, протянул через Петькино плечо немытую руку, вырвал револьвер и крикнул сердитым голосом:
— Не дело! Ступай молоко сосать!
Петьке было тринадцать лет, и он по праву считал себя взрослым. Стрелять по юнкерам казалось ему более заманчивым, чем бить воробьев из рогатки. Петька взвыл от досады и злобы:
— Дяденька, полно баловать! Отдай штучку-то!
Трещал пулемет, звенели стекла, рушились карнизы юнкерского училища, торопливые красногвардейцы заряжали почти в упор придвинутую пушку. Небо заволакивалось мглой, раненых оттаскивали в угловую аптеку.
Топориков цыкнул на Петьку, стянул пустое брюхо ремнем и, помахивая револьвером, пошел в дым.
Будучи фигурой эпизодической, Петька-газетчик стушевывается и исчезает…
Нависли дождливые, мутные дни над Питером. Мокрые хлопья снега падали на мостовую и тут же таяли, растекаясь в лужи. От сырости потемнели стены домов. Небо, как мокрую тряпку, хотелось свернуть жгутом и выжать над взморьем.
В эту слякотную осень, в этот мокрый снег — разразились над северным городом воробьиные ночи: ухали, бухали, бабахали, тарахтели. Божьи старушки сходились шушукаться в подворотнях; купцы, адвокаты, чиновники забивали изнутри парадные двери своих квартир, заплаканные жены рассчитывали горничных и кухарок и прятали под половицы фотографические карточки своих сыновей в офицерских погонах; мальчишки на спор перебегали улицы под пулеметным огнем.
Думали те, кто запирался в своих квартирах, что наступила вечная страшная полярная ночь, одиночество, что сузился мир до их собственного адреса, до тесной их кухни, из которой не было выхода, из которой опасно выглянуть в форточку. Другим — вся Россия казалась теперь коммунальной квартирой на солнечную сторону; прежние, ненужные, маленькие адреса были потеряны и забыты. Серые толпы расползались по городу, заходили в чужие жилища, искали оружие в матрасах у статских советниц, громили погреба в магазинах Шитта и Черепенникова, висли на буферах и на крышах вагонов, разъезжаясь из города — куда глаза глядят.
Исчезновение Петьки произошло именно так: он примостился на буфере, паровоз свистнул, колеса громыхнули и под ногами заструились рельсы. Если бы Петьку спросили, куда он едет, Петька не смог бы ответить. Любань, Малая Вишера, Окуловка, Угловка, бесконечные запасные пути, тоска стоянок, сквозняки вонючих телятников и самосуд над машинистом. Потом — Валдайский тракт, холмы, застывшие озера, синие луковки церквей, поля, снега, сугробы… Черно холодное звездное небо — вызвездило от края до края, — глубоки сугробы, Россия громадна… Ау!
Зазевавшись на улицах, попал Степан Топориков к своему дому; стоял под навесом подъезда, за спиной болталась винтовка.
Швейцариха Настя, мать Степана, тыкала пальцем в замызганный на отделку пиджак и произносила горькие слова:
— Скажите на милость, какой корешок выискался! Мотался, мотался и домотался! Так тебе, проходимцу, и следует, большевик завшивый!
— Какой ни на есть, не тебе разбираться! — огрызался тот.
Швейцар Василий позеленел с лица, схватил сына за ворот и заорал в ярости:
— Нечего тебе, гадюка, желторотый черт, на родную мать белки пялить! Мать она тебе или не мать, я тебя спрашиваю?
В это время свистнула пуля-дура и ухлопала швейцариху наповал. У подъезда набухла толпа. В луже крови лежала на земле швейцариха, и глаза ее смотрели вверх без всякого выражения.
— Убийцы! — кричал истошно Василий, — убили, дьяволы! Настю убили, швейцариху!
Степка замешался в народ, за одно плечо, за другое, и пошел наутек.
За революционную бдительность и высокий рост назначили Топорикова Степку в Смольный, сначала часовым у главного входа, потом наверх, — в этажи поважнее.
В тревожной черноте питерских ночей, в океане, — огромный, изнутри светящийся океанский корабль. Галдят грузовики, лязгает артиллерия, дымятся походные кухни, затворы щелкают. В двери вливаются мохнатые толпы, на штыки часовых нанизаны пропуски, красные, серые, белые.
Внутри, в корабле — солдатские шинели, винтовки, обоймы, пулеметы. Проплывают в табачной мути обожженные порохом лица. Актовый зал — жаркий котел, центральная топка, со столов не слезают ораторы. Голосовые связки надорваны, опухли от бессонницы веки, растрескались губы. Шипят полы от тысячи шагов, тонут в листовках, в плевках, в окурках. Воздух сизый и плотный, ноябрьский ветер бессилен пробиться в открытые фортки, институтское электричество днем и ночью горит и не светит.
Люди валятся с ног, засыпают на окнах, в углах и вдоль стен, на полу в коридорах. Звериный храп под сводами дортуаров; рваные сапоги, в грязи и в глине, свисают с девичьих узких кроватей…
Топориков стоит на часах; не штык, а цветная гирлянда. Шипят полы под тысячью шагов.
— Пропуск, товарищ! Проходи, не отсвечивай!
Чешут паркет сапожищи, в окопной грязи, в дорожной глине — минской, самарской, челябинской; липнут к подошвам окурки и листовки.
Въехал в самую гущу Топориков. Сердце революции, океанский корабль в ноябрьском шторме. Шинели, обоймы, ручные гранаты, обожженные порохом бородатые лица, знамена, окопные вши.
«Руками за горло, коленом на грудь!»
— Пропуск!
Зима. Девятнадцатый год. Ропшинская улица, № 8.
В неотопленной комнате иней покрыл железные перила кровати. Тем не менее, именно эта комната во всей квартире считалась жилой. Остальные пять были заперты наглухо, изъяты из обихода, из памяти.
Щели в дверях заложены мятой бумагой.
Там, за этими дверями, остался ненужный балласт, потерявший значение и всякую связь с действительностью: излишняя кубатура; рояль, в котором от холода лопнули струны; голубые Поповские чашки; дубовый письменный стол; полки с книгами; сундуки, чем попало набитые доверху.
Люди уподобились аэронавту, сбрасывающему на землю свои ботинки, чтобы легче было подыматься в разреженном, леденящем воздухе.
На столе, в неотопленной комнате, считавшейся жилой, в крохотной баночке с деревянным маслом, коптил червячок фитиля. Тени были громадные, диккенсовские. На стене висела в декадентской раме гравюра, изображающая коронацию Шарлеманя; к стеклу прилипла уснувшая муха. В редких случаях совершались полярные экспедиции по ту сторону заложенных бумагой дверей, короткие вылазки в страну паутин и мороза. Как пленки, брошенные в проявитель, оживали тогда странные, далекие сны — при взгляде на пожелтевший крахмальный воротник, на футляр от очков, чернильницу из малахита, — оживая, тревожили на мгновенье и снова уходили в небытие.
Спать ложились в шубах и валенках, накрываясь грудой одеял. На перилах, около самой подушки, от теплого дыхания понемногу оттаивал иней. По одеялам бегали, попискивая, мыши.
Спящим снился сыпняк.
Поезд Реввоенсовета, Летучий Голландец революции.
Два паровоза — два ревущих снаряда. В первом вагоне — аппараты Вуза и типография. Во втором — сам наркомвоен с ревштабом. В третьем технический персонал и чины личной охраны. Последний, четвертый вагон — открытая платформа, на платформе — торпеда защитного цвета, 30 лошадиных сил.
Стонут рельсы на много верст впереди, вздрагивают шпалы, гудят мосты: прет поезд революции.
В третьем вагоне лежат валетом на койке Проскуров Яша и Степка Топориков, чины охраны. Топориков — старший.
Голос у Проскурова теноровый, Проскуров поет:
«Пойду, выйду в чисто поле
Поглядеть, как лен цветет.
Из-за горочки Егорочка
С тальяночкой идет…»
Топориков слюнявит цигарку, и дрёма, легкие мечтательные полусны опутывают его голову. Кому не известен этот благостный и непрочный отрыв от жизни в вечерний час? Этот час бывает розовым в деревне, когда из синеющей рощи, с лугов и полей подымаются, усиливаясь к ночи, сонные ароматы земли. В городах, где копоть и дым закрывают небо, тот же час бывает серо-лиловым. Тогда загораются фонари вдоль тротуаров, исчезают архитектурные подробности домов, очертания улиц становятся кубическими, упрощенными, обобщенными. В этот сумеречный час неодолимую прелесть обретает власть недосмотренных, неувиденных, неосуществленных снов.