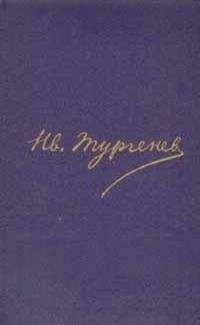— Ведь и сам Парамон Семеныч… вы не знаете? — он тоже происхождения высокого — и тоже с левой стороны. Говорят, его отец был владетельный грузинский князь из племени царя Давыда…* Как вы это понимаете? В немногих словах — а сколько сказано?! Кровь царя Давыда! Каково? А по другим известиям, родоначальником Парамона Семеныча был некий индийский шах Бабур Белая Кость! Хорошо ведь и это? А?
— Что ж, — спросил я, — и его, Бабурина, тоже бросили на произвол судьбы?
Пунин опять потер свое темя.
— Непременно! И даже с большею жестокостью, чем нашу кралечку! С раннего детства — одна борьба! Я даже, признаться, по этому случаю, вдохновясь Рубаном, четверостишие к портрету Парамона Семеныча сложил.* Постойте… как бишь? Да!
С пеленок не щадя гонений лютых, рок
Ко краю бездны зол Бабурина привлек!
Но огнь во мгле, злат луч на гноище блистает, —
И се! победный лавр чело его венчает!
Пунин произнес эти стихи размеренным певучим голосом и на о́, как и следует читать стихи.
— Так вот отчего он республиканец! — воскликнул я.
— Нет, не оттого, — простодушно отвечал Пунин. — Он отцу давно простил; но несправедливость перенести никоим образом не может; чужая печаль его тревожит!
Я собирался навести речь на то, что я узнал накануне от Музы, а именно на сватовство Бабурина, — да не знал, как приступить. Пунин сам вывел меня из затрудненья.
— Вы ничего не заметили? — спросил он меня вдруг, лукаво прищурив глазки. — Как у нас были? Ничего особенного?
— Да разве было что замечать? — спросил я в свою очередь.
Пунин оглянулся через плечо, как бы желая удостовериться, что нас никто не подслушивает.
— Наша красоточка Музочка скоро станет замужней дамой!
— Как?
— Госпожой Бабуриной, — напряженно произнес Пунин и, несколько раз ударив себя ладонями по коленям, закивал головою, как фарфоровый китаец.
— Не может быть! — воскликнул я с притворным изумленьем.
Голова Пунина немедленно остановилась, и руки его замерли.
— А почему же не может быть, позвольте полюбопытствовать?
— Потому что Парамон Семеныч в отцы бы годился вашей барышне; потому что такое различие в летах исключает всякую вероятность любви — со стороны невесты.
— Исключает! — с азартом подхватил Пунин. — А благодарность? А чистота сердечная? А нежность чувств? Исключает!! Вы бы хоть то сообразить изволили: положим, Муза прекраснейшая девица; но заслужить расположение
Парамона Семеныча, быть его утехой, подпорой — супругой наконец! разве это не есть высочайшее счастие даже для такой девицы? И она это понимает! Вы посмотрите, бросьте внимательный взгляд! Музочка перед Парамоном Семенычем вся благоговение, вся трепет и восторг!
— В том-то и беда, Никандр Вавилыч, что она, как вы говорите, вся трепет. Кого любишь, перед тем не трепещешь.
— И с этим я не согласен! Вот я, например: уж больше моего, кажется, невозможно любить Парамона Семеныча, а я… я трепещу перед ним.
— Да вы — другое дело.
— Почему другое дело? почему? почему? — перебил Пунин. Я просто не узнавал его: он горячился, серьезничал, чуть не сердился — и не рифмовал. — Нет, — твердил он, — я замечаю: у вас око не проницательное! Нет! Вы не сердцеведец! — Я перестал ему противоречить… и, чтобы придать иное направление разговору, предложил заняться, по старой памяти, чтением.
Пунин помолчал.
— Из прежних? Из настоящих? — спросил он наконец.
— Нет; из новых.
— Из новых? — повторил недоверчиво Пунин.
— Из Пушкина, — отвечал я. Мне вдруг пришли в голову «Цыгане», о которых упомянул недавно Тархов. Там же, кстати, песенка поется о старом муже. Пунин поворчал немного, но я усадил его на диван, чтоб ему было удобнее слушать, и принялся читать пушкинскую поэму. Вот дошло дело до «старого мужа, грозного мужа»; Пунин выслушал песенку до конца — и вдруг порывисто поднялся.
— Не могу, — промолвил он с глубоким, меня самого поразившим, волнением, — извините меня; не могу я слушать более сего сочинителя. Он безнравственный пашквилянт; он лжец… он меня смущает. Не могу! Позвольте прекратить мое сегодняшнее посещение.
Я начал уговаривать Пунина остаться; но он настаивал на своем с каким-то тупым и испуганным упорством; повторил несколько раз, что он чувствует смущение и желает освежиться на воздухе, — и при этом его губы слегка дрожали и глаза его избегали моих глаз, точно я обидел его. Так он и ушел.
А спустя немного и я вышел из дому и отправился к Тархову.
Ни у кого не спросясь, по студенческой привычной бесцеремонности, я прямо пробрался к нему на квартиру. В первой комнате никого не было. Я кликнул Тархова по имени и, не получив ответа, хотел было удалиться; но дверь соседней комнаты растворилась — и появился мой приятель. Он как-то странно взглянул на меня и молча пожал мне руку. Я пришел к нему с тем, чтобы пересказать всё, что я узнал от Пунина; и хотя я тотчас почувствовал, что посетил Тархова не в пору, однако, поговорив немного о предметах посторонних, кончил-таки тем, что сообщил ему намерение Бабурина насчет Музы. Это известие, по-видимому, не очень его удивило; он тихонько подсел к столу и, внимательно вперив в меня глаза и безмолвствуя по-прежнему, придал чертам своим выражение… такое выражение, точно он желал сказать: «Ну, что ты еще сообщишь? Ну, излагай свои мысли». Я попристальнее посмотрел ему в лицо… Оно мне показалось оживленным, несколько насмешливым, несколько даже наглым. Но это не помешало мне «изложить свои мысли». Напротив. «Ты форс свой выказываешь, — подумалось мне, — так и я ж тебя щадить не стану!» И тут же немедленно приступил к рассуждению о вреде внезапных увлечений, об обязанности каждого человека уважать свободу и личность другого человека, — словом, приступил к преподаванью полезных и дельных советов. Разглагольствуя таким манером, я, для большей легкости, расхаживал взад и вперед по комнате. Тархов не перебивал меня и не шевелился на своем стуле: только пальцами играл по подбородку.
— Я знаю, — говорил я… (Что собственно побуждало меня говорить, мне самому оставалось неясным, вероятнее всего — зависть; не служение же нравственности в самом деле!) Я знаю, — говорил я, — что это дело не легкое, не шуточное; я уверен, что ты любишь Музу и что Муза тебя любит, что это с твоей стороны не мгновенная прихоть… Но вот, положим!.. (Тут я скрестил руки на груди.) Положим: ты удовлетворил свою страсть, а дальше что? Ведь ты не женишься на ней? И между тем ты разрушаешь счастье хорошего, честного человека, ее благодетеля и — кто знает? (тут мое лицо выразило в одно и то же время и проницательность и грусть) — быть может, и ее собственное счастье…
И т. д., и т. д., и т. д.!!!
Около четверти часа лилась моя речь. Тархов всё молчал. Меня начинало смущать это молчание. Я изредка взглядывал на него, не столько для того, чтобы удостовериться во впечатлении, которое производили мои слова, сколько для того, чтобы понять, отчего это он не возражает и не соглашается, а сидит, словно глухонемой? Мне наконец, однако, показалось, что в лице его происходит… да, действительно происходит перемена. Оно стало выражать беспокойство, тревогу, тоскливую тревогу… Но, странное дело! то оживленное, светлое, смеющееся нечто, то, что поразило меня с самого первого взгляда на Тархова, все-таки не покидало этого встревоженного, этого тоскливого лица! Я еще не знал, поздравлять ли мне самого себя с успехом своей проповеди, как вдруг Тархов поднялся и, стиснув мне обе руки, промолвил скороговоркой:
— Благодарю, благодарю. Ты, конечно, прав… хотя, с другой стороны, можно было бы заметить… Ведь что такое собственно твой хваленый Бабурин? Честный тупец — и больше ничего! Ты его республиканцем величаешь — а он просто бука! У! Вот он что! Весь его республиканизм состоит в том, что он нигде не уживается.
— А! ты так полагаешь! Бука! не уживается!! — Но знаешь ли ты, — продолжал я с внезапной запальчивостью, — знаешь ли ты, любезный Владимир Николаич, что в наше время не уживаться нигде — это признак хорошей, благородной натуры? Одни пустые люди — дурные люди — везде уживаются и примиряются со всем! Ты говоришь: Бабурин — честный тупец!!! Что ж, по-твоему, лучше быть бесчестным остряком?
— Ты извращаешь мои слова! — воскликнул Тархов. — Я хотел только объяснить тебе, как я понимаю этого господина. Ты думаешь — он такой редкий экземпляр? Ничуть! Подобных ему людей я тоже встречал на своем веку. Сидит человек с этаким важным видом, молчит, упорствует, топорщится… Ого-го! Знать, у него внутри, там — много! А внутри-то ничего у него нет, ни единой мысли нет в его голове — одно только чувство собственного достоинства.