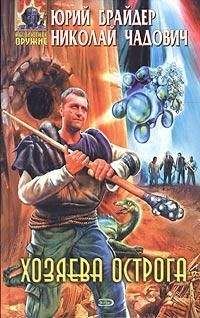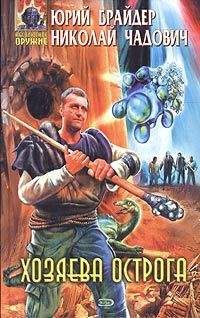— Это он все сам рисовал, — проговорил дьякон шепотом.
— Что? — спросил я.
— Да вот все эти вывесочки и объявленьица, все сам судья. Почерк у него великолепный, кисточек сколько разных, красок…
Судья разбирал уже какое-то дело. Чесалкина не было, а мужики, которых я видел на мельнице, сидели в тулупах и сердито посматривали в угол, ожидая очереди. Судья был молодой человек лет тридцати, с прекрасными бакенбардами и довольно приятным лицом. Он был в форменном фраке, из-под темнозелекого воротника которого выглядывали ослепительной белизны воротнички сорочки. Знак на нем был густо вызолочен и как-то особенно красиво лежал на его плечах. Говорил он ровно, баритоном и смотрел прямо в глаза допрашиваемому. На судейском столе стояла прекрасная чернильница с часами и Фемидой, стакан со множеством карандашей и перьев и судебные уставы с 10-м томом. Прошло с полчаса, явился и Чесалкин в лисьей шубе. Войдя с шумом в камеру, он приостанавился, обвел кругом глазами и, увидев икону, засучил правый рукав и начал креститься; затем, выйдя на средину камеры, сделал глубокий поклон судье, а потом, обернувшись, трижды поклонился публике и сел на скамью. Увидав меня, он мигнул по направлению к мужикам, помотал головой и, перекрестившись, пожал плечами. Удивляюсь, дескать, истинный бог, удивляюсь!
Дошла очередь и до нас. Опросив нас с дьяконом, не родня ли мы тяжущимся, не имеем ли с ними тяжебных дел и прочее, судья попросил нас выйти в свидетельскую комнату, на дверях которой была вывесочка: комната для свидетелей. Несмотря, однако, на то, что дверь была затворена, голос Чесалкина раздался так же ясно, как будто он был в одной с нами комнате. Мужики рассказывали, все разом, как было дело, как ссыпали они пшеничку, по скольку каждый, как его степенство посулил расчесть их вечером, как они просили его выдать им покамест ярлычки, чтобы не с пустыми руками оставаться, как он отказал им в этом при свидетелях (причем помянули нас), и как, наконец, приходили они вечером на мельницу и не дополучили по пятьдесят копеек на каждую четверть. Рассказ этот Чесалкин поминутно прерывал и кричал, что мужики все врут, что расчел он их честно, благородно, что других денег платить не намерен. Как судья ни старался уговорить Чесалкина не перебивать крестьян, как ни предостерегал его, что в противном случае он будет оштрафован, Чесалкин даже и не слышал ничего: кричал, божился; кричали и мужики, и шум пошел такой, что судья хоть бросай все и беги вон. Наконец призвали меня.
— Что вам известно по этому делу? — спросил судья. Но не успел я, как говорится, рта разинуть, как Чесалкин уже кричал:
— Расчел честно, благородно… Истинный бог, вот вам мать пресвятая богородица и Николай-угодник! Я бы с них тысячи рублей не взял, чтобы вас беспокоить, и чтобы рядом стоять-то с этими паршивцами…
— Чесалкин, предупреждаю вас вторично… — начал было судья, но Чесалкин продолжал:
— Тысячи рублей не взял бы! Истинный бог, не взял бы за срамоту за одну, за эту самую, что я рядом стою с этими поганцами…
— Господин Чесалкин, я… — проговорил было судья.
— И что из-за них, из-за плюгавых, — перебил его Чесалкин: — благородных людей беспокоят… Истинный бог, тысячи рублей не возьму! — И Чесалкин, обратясь лицом к публике, а к судье спиной, начал жаловаться публике на паршивцев, которым и цена-то вся — грош железный.
— Господин Чесалкин! я штрафую вас на тридцать копеек, — поторопился проговорить судья: — за нарушение тишины в камере.
Чесалкин обернулся к судье и, приложив руку к сердцу, почтительно поклонился.
— Благодарю вас, господин мировой судья, — проговорил он. — Истинный бог, благодарю за ваше ученье, потому что так и надо учить нас, мужиков. — И, достав два пятиалтынных, положил их на стол. — В расчете-с! — проговорил он.
А мужики все разом кричали:
— Все знают, как ты рассчитываешься! Знают все, кого ни спроси! Ты и здесь-то вон как орешь, слова никому не дашь выговорить, а там, у себя на мельнице-то, ты — воин!
Наконец судья кое-как водворил порядок; все замолкли, и очередь дошла до меня. Я рассказал, что знал. Затем был вызван дьякон. Он был бледен как полотно, и на вопрос судьи, что он знает по настоящему делу, начал рассказ свой с того, как мы поехали на рыбную ловлю, сколько наловили рыбы, как увидел он сома, как обломилась острога и мы полетели в воду. Как ни уговаривал его судья перейти к делу, дьякон продолжал повествование, как мы попали на мельницу купца Чесалкина (умолчал только о выпитой водке и наливке) и, наконец, добравшись до дела, объявил, что он ничего не знает.
— Верно, верно, истинный бог, верно! — зашумел Чесалкин: — вот отец дьякон — сан священный носит, он не покривит душой. Рассчитался честно, благородно, всех до копеечки рассчитал. Вот вам пресвятая богородица, истинно не лгу, рассчитался как следует.
Мужики загалдели, Чесалкин начал кричать, и шум опять поднялся страшный. Судья опять принялся унимать.
— Какие же у вас есть доказательства? — спросил он мужиков. — Купец Чесалкин должным себя не сознает.
— Не сознаю, это верно-с! — перебил его Чесалкин: — потому я расчелся…
— Есть у вас какие-нибудь ярлычки, что ли? — допрашивал судья.
— Не дал он нам ярлычков… Вот и свидетели…
— Да зачем же мне вам ярлычки давать, — закричал Чесалкин: — коли я вам денежки выдал?
— Расписок нет ли каких-нибудь? — продолжал судья.
— Есть и расписки! — закричали мужики и обернулись к судье спинами.
— Это что же такое? — спросил он.
— А то, что на спине отмечено у каждого, сколько пшеницы ссыпано.
— На спине, значит, расписывался! — сострил кто-то в публике, и в камере раздался дружный хохот.
— Смотри, ребята, как бы с вас пошлин гербовых не присудили за то, что расписка не на гербовой бумаге писана, — сострил еще кто-то, и хохот увеличился еще более.
— Прошу не нарушать тишины! — проговорил судья, возвысив голос, и потом спросил: — Вы миром не покончите ли дело?
— Я с большим моим удовольствием! — закричал Чесалкин: — я с ними и не ссорился, истинный бог, не ссорился и даже сейчас не серчаю… Что ж, я готов простить их.
— Мы готовы мириться! — кричали мужики: — пусть отдаст нам наши деньги: вот те и мир будет!
— Нет, уж это вы не хотите ли вот чего! — прокричал Чесалкин и, помуслив большой палец правой руки, показал им кукиш: — нет, уж это — покорно благодарим. Этак то вы больно богаты будете… облопаетесь неравно!
— Садитесь! я пишу решение! — объявил судья.
Тяжущиеся сели, но угомонились не скоро и продолжали перебранки. Наконец устали и замолчали. В камере водворилась тишина, и только торопливый скрип судейского пера нарушал ее. Чесалкин сидел, облокотясь на колена, и помахивал шапкой; пот катился с него ручьями. Наконец судья пригласил всех встать и прочел решение, которым определил: по неимению у истцов никаких доказательств, в иске им отказать. Затем объявил о праве обжалования решения апелляционным порядком и о сроках. Мы вышли из камеры.
— Вот-с, видели! слышали! — кричал на дворе Чесалкин. — Вот они каковы-с! Истинный бог, мать пресвятая богородица, всех подлецов до копеечки расчел, а они в камеру тащат, отрывают от умирающей супруги… Они, галманы паршивые, того и знать не хотят, что теперича, по ихней милости, мне, может, с женой проститься не придется.
— Разве жена ваша плоха очень? — спросил я.
— Исповедали и причастили, а сюда поехал — соборовать стали.
И он пошел по дороге к селу. Вслед за ним пошли и мужики.
— Креста на тебе нет! — шумели они.
— Мерзавцы вы паршивые! галманы пустоголовые! — гремело в воздухе.
Вышел судья из камеры, с сигарой в зубах и в войлочной, последнего фасона, шляпе.
— Как поживаете, отец дьякон? Давно я вас не видал! — И, любезно приподняв передо мною шляпу, он направился к дому. Навстречу выбежали из дома дети.
— Папочка, ты кончил судить? — прозвенели их тоненькие голосочки.
— Кончил, друзья мои, кончил! — проговорил судья и вместе с детьми вошел в дом.
Мы сели в тарантас и отправились домой, и только когда мы выехали в поле, на душе стало легче. Вот роскошное зеленое поле, засеянное рожью, вот загон с копнами овса, которых замучившийся полевыми работами мужичок не успел еще убрать на гумно; вот блеснула река, вот показалась рощица, восхитительная березовая рощица с белыми стволами деревьев и с темнозелеными листьями… Так бы и смотрел все на эту картину! Так бы и дышал все этим воздухом.
Дня через три умерла жена Чесалкина. Он отгадал, сказав дьякону, когда пировали они в приказчичьем флигеле, что она последнюю песенку сыграла.
1877
Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1877, № 9. Печатается по изданию: Сочинения И. А. Салова, т. II, СПб. М., 1884.