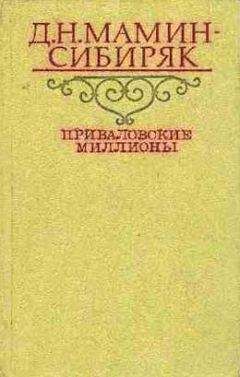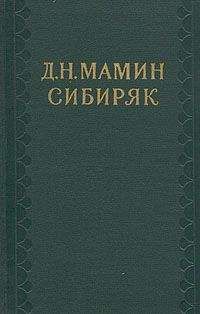– Вот изволь с ней поговорить! – горячилась Марья Степановна, указывая вбежавшей Верочке на сестру. – Не хочет переменить даже платье…
– Ну что, какой он: красавец? брюнет? блондин? Главное – глаза, какие у него глаза? – сыпала вопросами Хиония Алексеевна, точно прорвался мешок с сухим горохом.
– Высокий… носит длинную бороду… с Лукой разговаривал.
– Ах, Верочка, глаза… какие у него глаза?
– Кажется, черные… нет, серые… черные…
– Что он с Лукой говорил? – спросила Марья Степановна.
Верочка начала выгружать весь запас собранных ею наблюдений, постоянно путаясь, повторяла одно и то же несколько раз. Надежда Васильевна с безмолвным сожалением смотрела на эту горячую сцену и не знала, что ей делать и куда деваться.
Неожиданное появление Привалова подняло переполох в бахаревском доме сверху донизу. Марья Степановна в своей спальне при помощи горничной Даши и Хионии Алексеевны переменяла уже третий сарафан; Верочка тут же толклась в одной юбке, не зная, какому из своих платьев отдать предпочтение, пока не остановилась на розовом барежевом. Как всегда в этих случаях бывает, крючки ломались, пуговицы отрывались, завязки лопались; кажется, чего проще иголки с ниткой, а между тем за ней нужно было бежать к Досифее, которая производила в кухне настоящее столпотворение и ничего не хотела знать, кроме своих кастрюль и горшков. Старый Лука – и тот, схватив мел и суконку, усердно полировал бронзовую ручку двери.
– Устрой, милостивый господи, все на пользу… – вслух думал старый верный слуга, поплевывая на суконку. – Уж, кажется, так бы хорошо, так бы хорошо… Вот думать, так не придумать!.. А из себя-то какой молодец… в прероду свою вышел. Отец-то вон какое дерево был: как, бывало, размахнется да ударит, так замертво и вынесут.
– Уж вы, Хиония Алексеевна, пожалуйста, не оставляйте нас, – не зная зачем, просила Марья Степановна.
– Помилуйте, Марья Степановна: я нарочно ехала предупредить вас, – не без чувства собственного достоинства отвечала Хиония Алексеевна, напрасно стараясь своими костлявыми руками затянуть корсет Верочки. – Ах, Верочка… Ведь это ужасно: у женщины прежде всего талия… Мужчины некоторые сначала на талию посмотрят, а потом на лицо.
– Что же мне делать, Хиония Алексеевна? – со слезами в голосе спрашивала бедная девочка.
– Теперь уж ничего не поделаешь… А вот вы, козочка, кушайте поменьше – и талия будет. Мы в пансионе уксус пили да известку ели, чтобы интереснее казаться…
Только один человек во всем доме не принимал никакого участия в этом переполохе. Это был младший сын Бахарева, Виктор Васильич. Он лежал в одной из самых дальних комнат, выходившей окнами в сад. Вернувшись домой только в шесть часов утра, «еле можаху», он, не раздеваясь, растянулся на старом клеенчатом диване и теперь лежал в расстегнутой куцей визитке табачного цвета, в смятых панталонах и в одном сапоге. Другой сапог валялся около дивана вместе с раскрытыми золотыми часами. Молодое бледное лицо с густыми черными бровями и небольшой козлиной бородкой было некрасиво, но оригинально; нос с вздутыми тонкими ноздрями и смело очерченные чувственные губы придавали этому лицу капризный оттенок, как у избалованного ребенка. Игорь несколько раз пробовал разбудить молодого человека, но совершенно безуспешно: Виктор Васильич отбивался от него руками и ногами.
– Велели беспременно разбудить, – говорил Игорь, становясь в дверях так, чтобы можно было увернуться в критическом случае. – У них гости… Приехал господин Привалов.
– Какой там Привалов… Не хочу знать никакого Привалова! Я сам Привалов… к черту!.. – кричал Бахарев, стараясь попасть снятым сапогом в Игоря. – Ты, видно, вчера пьян был… без задних ног, раккалия!.. Привалова жена в окно выбросила… Привалов давно умер, а он: «Привалов приехал…» Болван!
– Это уж как вам угодно будет, – обиженным голосом заявил Игорь, продолжая стоять в дверях.
– Мне угодно, чтобы ты провалился ко всем семи чертям!
– Может, прикажете сельтерской воды или нашатырного спирту… весь хмель как рукой снимет.
– А! так ты вот как со мной разговариваешь…
– Мне что… мне все равно, – с гонором говорил Игорь, отступая в дверях. – Для вас же хлопочу… Вы и то мне два раза Каблуком в скулу угадали. Вот и знак-с…
– Ну, и убирайся к чертовой матери с своим знаком, пока я из тебя лучины не нащепал!
Игорь скрылся. Бахарев попробовал раскрыть глаза, но сейчас же закрыл их: голова чертовски трещала от вчерашней попойки.
«И пьют же эти иркутские купцы… Здорово пьют! – рассуждал он. – А Иван-то Яковлич… ах, старый хрен!»
Когда Привалов вошел в кабинет Бахарева, старик сидел в старинном глубоком кресле у своего письменного стола и хотел подняться навстречу гостю, на сейчас же бессильно опустился в свое кресло и проговорил взволнованным голосом:
– Да откуда это ты… вы… Вот уж, поистине сказать, как снег на голову. Ну, здравствуй!..
Наклонив к себе голову Привалова, старик несколько раз крепко поцеловал его и, не выпуская его головы из своих рук, говорил:
– Какой ты молодец стал… а! В отца пошел, в отца… Когда к нам в Узел-то приехал?
– Сегодня ночью, Василий Назарыч.
– Да, да, ночью, – бормотал старик, точно стараясь что-то припомнить. – Да, сегодня ночью…
– Как здоровье Марьи Степановны?
– Моей старухи? Ничего, молится… Нет, право, какой ты из себя-то молодец… а!
– Я прежде всего должен поблагодарить вас, Василий Назарыч… – заговорил Привалов, усаживаясь в кресло напротив старика.
– Как ты сказал: поблагодарить?
– Да, потому что я так много обязан вам, Василий Назарыч.
– Э, перестань, дружок, это пустое. Какие между нами счеты… Вот тебе спасибо, что ты приехал к нам, Пора, давно пора. Ну, как там дела-то твои?
– Все в том же положении, Василий Назарыч.
– Гм… я думал, лучше. Ну, да об этом еще успеем натолковаться! А право, ты сильно изменился… Вот покойник Александр-то Ильич, отец-то твой, не дожил… Да. А ты его не вини. Ты еще молод, да и не твое это дело.
– Я хорошо понимаю это, Василий Назарыч.
– Нет, ты не вини. Не бери греха на душу…
Коренастая, широкоплечая фигура старика Бахарева тяжело повернулась в своем кресле. Эта громадная голова с остатками седых кудрей и седой всклокоченной бородой была красива оригинальной старческой красотой. Небольшие проницательные серые глаза смотрели пытливо и сурово, но теперь были полны любви и теплой ласки. Самым удивительным в этом суровом лице с сросшимися седыми бровями и всегда сжатыми плотно губами была улыбка. Она точно освещала все лицо. Так умеют смеяться только дети да слишком серьезные и энергичные старики.
Кабинет Бахарева двумя окнами выходил на улицу и тремя на двор. Стены были оклеены скромными коричневыми обоями, окна задрапированы штофными синими занавесями. В этой комнате всегда стоял полусвет. На полу лежал широкий персидский ковер. У стены, напротив стола, стоял низкий турецкий диван, в углу железный несгораемый шкаф, в другом – этажерка. На письменном столе правильными рядами были разложены конторские книги и счеты с белыми облатками. У яшмового письменного прибора стопочкой помещались печатные бланки с заголовком: «Главная приисковая контора В. Н. Бахарева». Они вместо пресса были придавлены платиновым самородком в несколько фунтов весу. На самом видном месте помещалась большая золотая рамка с инкрустацией из ляпис-лазури; в ней была вставлена отцветшая, порыжевшая фотография Марьи Степановны с четырьмя детьми. На стене, над самым диваном, висела в богатой резной раме из черного дерева большая картина, писанная масляными красками. На ней был оригинальный вид сибирского прииска, заброшенного в глубь Саянских гор. На первом плане стояла пестрая кучка приисковых рабочих, вскрывавших золотоносный пласт. Направо виднелась большая золотопромывательная машина, для неопытного глаза представлявшая какую-то городьбу из деревянных балок, желобов и колес. На заднем плане картины, на небольшом пригорочке, – большая приисковая контора, несколько хозяйственных пристроек и длинные корпуса для приисковых рабочих. Высокие горы, сплошь обросшие дремучим сибирским лесом, замыкали картину на горизонте. Это был знаменитый в летописях сибирской золотопромышленности Варваринский прииск, открытый Василием Бахаревым и Александром Приваловым в глубине Саянских гор, на какой-то безыменной горной речке. Варваринским он был назван в честь Варвары Павловны, матери Сергея Привалова.
Привалова поразило больше всего то, что в этом кабинете решительно ничего не изменилось за пятнадцать лет его отсутствия, точно он только вчера вышел из него. Все было так же скромно и просто, и стояла все та же деловая обстановка. Привалову необыкновенно хорошо казалось все: и кабинет, и старик, и даже самый воздух, отдававший дымом дорогой сигары.