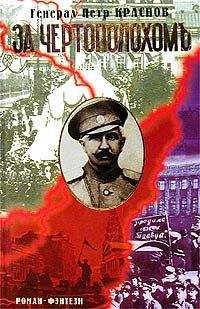— А русское искусство?.. Наука русская?.. Стиль?.. — воскликнул Коренев.
— Крестиками вышитые полотенца, — язвительно сказал Дятлов. — Коробочки с красными бабами в сарафанах.
— Позвольте господа, — сказал Коренев. Ему даже страшно стало за этих людей. — Сейчас мы видели на экране русскую оперу! Она написана сто лет тому назад Чайковским. Не умерла же она? Ее воспроизводит Германия, страна немало музыкальная. Нет равного по силе русскому искусству!
— Будет, оставьте, — раздались голоса.
— Ведь это все было…
— Было и быльем поросло!
— И что вместо этого? Чума!
— Гиблое место…
— Нет, — сказал твердо Коренев. — Там — Россия! Она не умерла! Я докажу это!
— Как вы докажете?
— Я поеду туда…
— И без вас многие ехали, да все погибли.
— Господа, да ведь здесь разве сладко живется? Постоянный демократический полицейский надзор, полное отсутствие свободы. Не смеешь работать столько, сколько хочешь, не смеешь есть, что хочешь. В вашу жизнь вмешиваются ежедневно. Эти постоянные обыски, осмотры, изъятия излишков. Свалки между членами партий, убийства из-за угла. Мы с лишком сорок лет не знаем войны, но каждый день мы убиваем людей, мы ненавидим друг друга… — задыхаясь и торопясь, боясь, что его прервут, говорил Коренев. — А если там восстановилась Русь, и там… любовь!..
— Что!? — смеясь и прихихикивая, воскликнул Дятлов. — Любовь? Христианство?.. Евангелие?.. Какая чушь. Глупая романтика. Романтика пятнадцатилетнего мальчика о светозарной многосиянной райской любви… Ничего этого нет. Я с двенадцати лет знаю, что все это одна физиология. Сказали тоже! Любовь!
— Я не про такую любовь говорил, — сказал, краснея, Коренев. — Я говорил о любви к ближнему.
— Вздор, — сказал Дятлов. — Здоровый эгоизм есть любовь к ближнему. Я делаю вам приятное потому, что ожидаю от вас другого приятного.
— Это холодный ужас, — прошептал Коренев.
— Это — жизнь, — сказал Дятлов.
— Садитесь, Петр Константинович, — сказала Виктория Павловна. — Пейте ваш чай, и будет вам шуметь. Я обожаю Евангелие, хотя и не очень его понимаю. Или перевод плохой, или что-то не так. Но, пожалуй, из всех философий самая тонкая и воздушная — философия Христа.
— Ах! — сказала Екатерина Павловна. — А эти церкви-музеи! Нет, это что-то восхитительное. И подумаешь, люди двадцать веков верили, молились, жили этим…
— Живут и теперь, — убежденно сказал Коренев.
— Где же? — спросил Дятлов. — Как исторический обряд кое-что оставлено.
— В России, — убежденно сказал Коренев.
— А все-таки вертится, — сказал старичок.
— И действительно, вертится, — сказал Коренев. Пусто было у него на душе. Слова всех этих людей гулко ударялись в него, как голос в пустую бочку, и больно звенели в ушах… «Нет, — думал он, — на восток… на восток…»
Эльза сидела в мастерской у Коренева. На мольберте стояло почти законченное полотно. По старой гравюре Коренев воспроизвел картину «Крючник». С полотна на Эльзу смотрело широкое, румяное, обросшее красивой бородой и густыми русыми кудрями лицо. Мощная мускулатура чувствовалась под розовой рубахой и жилеткой с мешком. Глаза ласково улыбались, точно стыдился этот мужик своей красоты и силы.
— Таких людей уже нет, — раздумчиво сказала Эльза, следя за быстрыми мазками кисти Коренева. — Из вас выйдет очень талантливый художник, Петер. Зачем вы хотите уезжать?
— Фрейлейн Эльза, вы не рассердитесь и не обидитесь на меня? — сказал Коренев и взял чистый холст, натянутый на подрамник.
Он стал быстро, широкими, грубыми мазками набрасывать рисунок. Ничего не говорил. Слышно было, как трещал и ломался уголь в его нервных руках, как шуршала по холсту тряпка, стирая линии, мазала кисть. На холсте стало вырисовываться бледное лицо, лучистые синие глаза с какой-то неземной святостью засияли на полотне из темных и длинных, кверху загнутых ресниц, темные брови легли дугами над ними, обрисовался тонкий нос и чуть открытые пухлые губы. Резко, большими мазками стали проявляться две густые косы из-за плеч, спускавшиеся на грудь. Тонкие руки с маленькими кистями были опущены вдоль тела. Белый хитон, подхваченный на шее низким вырезом в складку и покрытый восточным золотым рисунком, покрывал стройное тело.
Лицо Коренева было напряжено, на лбу выступили капли пота. Он работал, не замечая времени, молча и, казалось, ничего не видел и не помнил. Он подходил к холсту, отходил, не отрывая глаза от холста, поправил точку в глазах, стер, снова поставил другую, лицо принимало странное выражение. Земная, прекрасная девушка начинала казаться феей, сказкой, мечтой, призраком. Лиловатый прозрачный тон окутывал ее. Он сливался с тенями хитона, в нем тонули ее руки, лицо принимало прозрачный оттенок, и казалось, что вот-вот оно растает и испарится.
Проголодавшаяся Эльза достала сверток с ломтями хлеба, жидко намазанными маргарином, и протянула их Кореневу.
— Хотите есть? — сказала она.
Он ничего не ответил. Было похоже, что он не слыхал ее предложения. Она устроилась удобнее на кушетке и стала есть, откусывая снежно-белыми зубами маленькие кусочки хлеба. Она сама была художница. Но так писать она не могла. Коренев смотрел куда-то вдаль и точно там видел ту, которую рисовал.
Уже смеркалось, когда Коренев оторвался от холста и, тяжело вздохнув, с шумом отодвинул мольберт. Задремавшая на кушетке Эльза вздрогнула и проснулась.
Из сумерек на нее глядела с холста дивно прекрасная девушка. Ревнивое подозрение закралось в душу Эльзы.
— Вот она, — сказал Коренев. — Вот та, которая сможет меня заставить позабыть вас.
— Она русская? — глухим голосом спросила Эльза.
— Русская, — гордо сказал Коренев.
— Кто она?.. Балетная артистка? — прошептала Эльза.
— Нет.
— Где вы познакомились с ней?
— Нигде… Она — призрак… Помните, в Вердере, когда я заболел, она явилась ко мне.
— Призрак?!. Как страшно, — содрогаясь, сказала Эльза, но лицо ее стало веселее. — О, Петер, только не шутите со мной.
— Какие шутки! — сказал Коренев. — Это та, которая указала мне идти в Россию. И если я найду ее… Простите меня, Эльза.
— Да, конечно… — холодно сказала Эльза. — Она так прекрасна. Вы поедете ее искать?.. Когда вы поедете?..
— Не знаю.
— О, милый, милый Петер. Возьмите и меня с собой. Кто едет с вами?
— Доктор Клейст.
— Только?
— Нет… Еще Бакланов, Дятлов…
— Дятлов?! — с удивлением воскликнула Эльза. — Мисс Креггс.
— С вами едет женщина? Возьмите и меня с собой. Вы помните, как мы с вами хорошо умели wandern по горам Баварии и Гессена?
— Эльза… Там опасности: чума, насекомые, хищные звери. Сорок с лишком лет туда не ступала нога человека.
— Какая цель вашего путешествия?
— Найти Россию.
Сумерки сгущались. Самому Кореневу было страшно смотреть на призрак, воплощенный в красках.
— Пойдемте, — сказал он. — Пора закрывать мастерскую…
Когда на улице они прощались, она протянула ему холодную руку и смотрела на него жалким, просящим взглядом. Он глядел мимо нее, был занят своими мыслями. Призрак манил его, и не мог он не верить в него.
Получить нужные для проезда в «Россию» визы оказалось невозможно. При широко объявленных свободах путешествовать было нельзя. На Behrenstrabe хлопотавшего за всех доктора Клейста принял худощавый желчный человек, консул Бирк, социал-демократ по партии. Он знал, что Клейст был членом рейхстага от Deutsche National-Partei,[3] и потому наежился и нахохлился, увидав старого доктора.
— Куда это вам? — спросил он.
— В Россию, — отвечал Клейст.
— Но вы знаете, что Россия погибла, что ее нет, — сказал Бирк. — Погибли и все наши тамошние концессии.
— Теоретически-да, она погибла, — сказал Клейст, — но мы не имеем никаких конкретных данных оттуда, и вот за этими конкретными данными группа молодых русских людей и хочет ехать.
— Но вы не русский, фрейлейн Беттхер не русская, там есть еще американка, — фыркнул Бирк.
— Но, по существу, какая цель препятствовать нашему выезду? Мы на некоторое время освободим от своих ртов германский народ и, может быть, обогатим науку новыми исследованиями.
Этот довод несколько смягчил господина Бирка.
— Хорошо, — сказал он. — Достаньте раньше визы от польского консула и удостоверение профессиональных союзов в том, что они ничего не имеют против вашей поездки.
Доктор Клейст откланялся. Ему казалось, что получить и то, и другое будет легко. Но пришлось каждому побегать и повозиться.
Бакланова и Дятлова в союзе литераторов встретили недружелюбно.
— Мы не можем, товарищи, дать вам такое разрешение, — сказал полный еврей, председатель союза русских писателей в Германии.