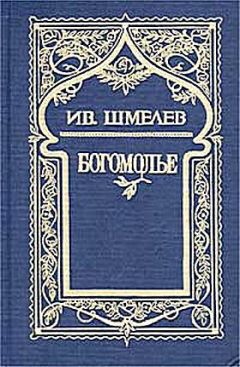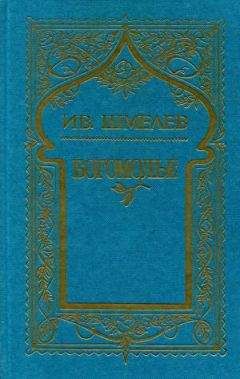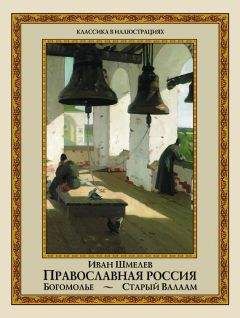Все смеются. Анюта испуганно шепчет мне: «Бабушка говорит, все трактирщики сущие разбойники… зарежут, кто ночует!» Но Брехунов на разбойника не похож. Он берет меня за голову, спрашивает: «А Москву видал?» — и вскидывает выше головы. Я знаю эту шутку, мне нравится, пальцы только у него жесткие. Он повертывает меня и говорит: «Мне бы такого паренька-то!» У него все девчонки, пять штук девчонок, на пучки можно продавать. Домна Панферовна не велит отчаиваться, может что-то поговорить супруге. Брехунов говорит — навряд, у старца Варнавы были, и он не обнадежил: «Зачем, говорит, тебе наследничка?» — Говорю — Господь дает, расширяюсь… а кому всю машину передам? А он, как в шутку: «Этого добра и без твоего много!» — трактирных, значит, делов.
— Не по душе ему, значит, — говорит Горкин, — а то бы помолился.
— А чайку-то попить народу надо? Говорю: «Басловите, батюшка, трактирчик на Разгуляе открываю». А он опять все сомнительно: «Разгуляться хочешь?» Открыл. А подручный меня на три тыщи и разгулял! В пустяке вот — и то провидел.
Горкин говорит, что для святого нет пустяков, они до всего снисходят.
Пьем чай в богомольном садике. Садик без травки, вытоптано, наставлены беседки из бузины, как кущи, и богомольцы пьют в них чаек. Все народ городской, небедный. И все спрашивают друг друга, ласково: «Не к Преподобному ли изволите?» — и сами радостно говорят, что и они тоже к Преподобному, если Господь сподобит. Будто тут все родные. Ходят разнощики со святым товаром — с крестиками, с образками, со святыми картинками и книжечками про «жития». Крестиков и образков Горкин покупать не велит: там купим, окропленных со святых мощей, лучше на монастырь пойдет. В монастыре, у Троице-Сергия, три дня кормят задаром всех бедных богомольцев, сколько ни приходи. Федя покупает за семитку книжечку в розовой бумажке — «Житие Преподобного Сергия», — будем расчитывать дорогой, чтобы все знать. Ходит монашка в подкованных башмаках, кланяется всем в пояс — просит на бедную обитель. Все кладут ей по силе-возможности на черную книжку с крестиком.
— И как все благочестиво да хорошо, смотреть приятно! — говорит Горкин радостно. — А по дороге и еще лучше будет. А уж в Лавре… и говорить нечего. Из Москвы — как из ада вырвались.
Бегают белые половые с чайниками, похожими на большие яйца: один с кипятком, другой, поменьше, с заварочкой. Называется — парочка. Брехунов велит заварить для нас особенного, который ро-за-ном пахнет. Говорит нам:
— Кому — вот те на, а для вас — господина Бо-ткина! Кому пареного, а для вас — ба-ринова!
И приговаривает стишок:
Русский любит чай вприкуску Да покруче кипяток!
— А ежели по-богомольному, то вот как: «Поет монашек, а в нем сто чашек?» — отгадай, ну-ка? Самоварчик! А ну, опять… «Носик черен, бел-пузат, хвост калачиком назад?» Не знаешь? А вон он, чайничек-то! Я всякие загадки умею. А то еще богомольное, монахи любят… «Господа помо-лим, чайком грешки промо-ем!» А то и «ки-шки промоем»… и так говорят.
— Это нам не подходит, Прокоп Антоныч, — говорит Горкин, — в Москве наслушались этого добра-то.
— Москва уж всему обучит. Гляди ты, прикусывает-то как чисто, а! — дивится на меня Брехунов, — и кипятку не боится!
Предлагает нам расстегайчика, кашки на сковородке со снеточком, а то московской соляночки со свежими подберезничками. Горкин отказывается. У Троицы, Бог даст, отговемшись, в «блинных», в овражке, всего отведаем — и грибочков, и карасиков, и кашничков заварных, и блинков, то-се… а теперь, во святой дороге, нельзя ублажать мамон. И то бараночками да мягоньким грешим вот, а дальше уж на сухариках поедем, разве что на ночевке щец постных похлебаем.
Брехунов хвалит, какие мы правильные, хорошо веру держим:
— Глядеть на вас утешительно, как благолепие соблюдаете. А мы тут, как черви какие, в пучине крутимся, праздники позабыли. На масленой вон странник проходил… может, слыхали… Симеонушка-странник?
— Как не слыхать, — говорит Горкин, — сосед наш был, на Ордынке кучером служил у краснорядца Пузакова, а потом, годов пять уж, в странчество пошел, по благодати. Так что он-то?..
— На все серчал. Жена его на улице ветрела, завела в трактир, погреться, ростепель была, а на нем валенки худые и промокши. Увидал стойку… масленица, понятно, выпимши народ, у стойки непорядок, понятно, шкаликами выстукивают во как… и разговор не духовный, понятно… Он первым делом палкой по шкаликам, начисто смел. Мы его успокоили, под образа посадили, чайку, блинков, то-се… Плакать принялся над блинками. Один блин и сжевал-то всего. Потом кэ-эк по чайнику кулаком!.. «А, кричит, — чаи да сахары, а сами катимся с горы!..» Погрозил посохом и пошел. Дошел до каменного столба к заставе да трои суток и высидел, бутошник уж его принял, а то стечение народу стало, проезду нет. «Мне, говорит, — у столба теплей, ничем на вашей печке!» Грешим, понятно, много. Такими-то еще и держимся.
Он уходит, говорит: «Делов этих у меня… уж извините».
К нам подходят бедные богомольцы, в бурых сермягах и лапотках, крестятся на нас и просят чайку на заварочку щепотку, мокренького хоть. Горкин дает щепотки и сахарку, но набирается целая куча их, и все просят. Мы отмахиваемся, — где же на всех хватит. Прибегает Брехунов и начинает кричать: как они пробрались? гнать их в шею! Половые гонят богомолок салфетками. Пролезли где-то через дыру в заборе и на огороде клубнику потоптали. Я вижу, как одному старику дал половой в загорбок. Горкин вздыхает: «Господи, греха-то что!» Брехунов кричит: «Их разбалуй, настоящему богомольцу и ходу не дадут!» Одна старушка легла на землю, и ее поволокли волоком, за сумку. Горкин разахался:
— Мы кусками швыряемся, а вон… А при конце света их-то Господь первых и призовет. Их там не поволокут… там кого другого поволокут.
И Антипушка говорит, что поволокут. Домна Панферовна стыдит полового, что мать ведь свою, дурак, волочит. А он свое: нам хозяин приказывает. И все в беседках начали говорить, что нельзя так со старым человеком, крепче забор тогда поставьте! Брехунов оправдывается, что они скрозь землю пролезут… что вам-то хорошо, попили да пошли, а его прямо одолели!..
— «Лоскутную» им поставил, весь спитой чай раздаю, кипятком хоть залейся, и за все три монетки только! Они за день боле полтинника нахнычут, а есть такие, что от стойки не отгонишь, пятаками швыряются. Не все, понятно, и праведные бывают…
— Если бы я был царь, — говорит Федя, — я бы по всем богомольным дорогам трактиры велел построить и всем бы бесплатно все бы… бедные которые, и чай, и щец с ломтем хлеба… А то зимой сколько таких позамерзает!
Горкин хвалит его — не в папашу пошел: тот три дома на баранках нажил, а Федя в обитель собирается, а ему богатеющую невесту сватают. Федя краснеет и не смотрит, а Домна Панферовна говорит, что вон Алексей-то Божий человек[24] царский сын был, а в конуру ушел от свадьбы… от царства отказался.
Антипушка крестится в бузину и говорит радостно так:
— До чего ж хорошо-то, Го-споди!.. Какие святые-то бывают, а уж нам хоть знать-то про них, и то радость великая.
Соседи по беседке рассказывают, что есть один такой в Таганке, сын богатого мучника… взял на Крещенье у дворника полушубок, шапку да валенки — и пропал! А вот на самый день матери Елены, царя Костинкина[25], 21 числа май-месяца, письмо пришло с Афонской горы: «Тут я нахожусь, на веки веков, аминь». Три тыщи мучник на монастырь будто выслал.
Все хвалят, и так всем радостно, что есть и теперь подвижники. И Брехунов говорит, что если уж по-настоящему сказать, то лучше богомольной жизни ничего нет. Он давно при этом деле находится и видит, сколько всякого богомольного народа, — душа прямо не нарадуется!
Мы пьем чай очень долго. Федя давно напился и читает нам «Житие», нараспев, как в церкви. Домна Панферовна сидит, разваливши рот, еле передыхает, — по самое сердце допилась. Анюта все пристает к ней, просит: «Бабушка, пожалуйста, не помри — смотри… у тебя сердце выскочит, как намедни!» А с ней было плохо на масленице, когда она тоже допилась у нас и много блинков поела. Она все потирает сердце, говорит: чай это крепкий такой. Горкин говорит: пропотеешь — облегчит, а чай на редкость. Они с Антипушкой все стучат крышечкой по чайнику, еще кипяточка требуют. Пиджак и поддевочку они сняли, у Антипушки течет с лысины, рубаха на плечах взмокла. И Горкин все утирается полотенцем, — а пьют и пьют. Я все спрашиваю: да когда же пойдем-то? А Горкин только и говорит: дай напьемся. Они сидят друг против дружки, молча, держат на пальцах блюдечки, отдувают парок и схлебывают живой-то кипяток. Антипушка поглядит в бузину и повздыхает: «Их, хорошо-о!..» И Горкин — поглядит тоже в бузину и скажет: «На что лучше!» Брехунов зовет Домну Панферовну поговорить с супругой. А они все не опрокидывают чашек и не кладут сахарок на донышки. Горкин наконец говорит: «Шабаш!.. ай еще постучать, последний?» Антипушка хвалит воду, — до чего ж мягкая! Горкин опять стучит и велит Феде сводить меня показать трактир, как хорошо расписано.