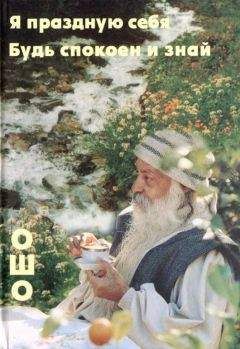Он не знал, что такое бывает: ты один, а все вдвоем. Она не оставляла его и ночью во сне. Он всегда думал о ней, засыпая, думал подробно: о ее лице, глазах, губах, волосах, шее, груди, руках, бедрах, ногах, думал сильно, с каким-то даже ожесточением, впиваясь зубами и ногтями в подушку, вжимая тело в твердый матрас, улавливая запах ее духов на себе, она ведь перебинтовывала его, гладила по волосам, а уходя, пожимала руку и целовала в лоб. Он вынюхивал ее из себя, проникался ею до кишок, так что создавалась иллюзия присутствия. И, засыпая, он не расставался с ней, ибо она подчинила себе его сны.
Это были непонятные сны, ни к чему не имеющие отношения и как-то бессмысленно-волнующе завязанные на ней. Раз она явилась в грубом фартуке сапожника, и они вдвоем приколачивали набойки к старым, сношенным сапогам с короткими голенищами. И почему-то это доставляло острую радость. В другой раз она настойчиво обещала накормить его супом, приводя его в странное возбуждение, но так и не начала готовить. Сон придавал значительность и тайный смысл несусветной чепухе. Было и такое: они куда-то собирались, долго, озабоченно, бестолково, теряя то один предмет одежды, то другой, не застегивались пуговицы, обрывались застежки, сон иссяк в тот момент, когда она разорвала юбку, а он потерял запонку. Он потом долго ломал голову, куда они намеревались пойти. Общее в этих снах, кроме их физической отчетливости, резкой, ничуть не сдвинутой, не замутненной, насыщенной мелочами жизненности, были неосуществленность намерения: набойки, несмотря на все ликование, так и не были прибиты, суп не сварен, сборы не закончены, но ощущение важности пустых хлопот и возникающей из совместных усилий близости оборачивалось пронзительным и долгим блаженством.
Проснувшись впервые в мокрых простынях, он поразился, что блаженство вовсе не было умозрительным. А затем подумал о том, что влажный след любви, высохнув, останется постыдным плесеневым пятном, иззубренным, как очертания европейского материка. А какой может быть стыд у приговоренного к смерти? Плевать он на все хотел. Его уже ничем не прошибешь...
Он мог проверить это в утро своей казни, вернее, в те минуты, когда его вели через тюремный двор к виселице и он понял, что не увидит Варвару Алексеевну и не простится с ней хотя бы кивком.
Известие об отказе о помиловании он выслушал спокойно, ибо ни на минуту не заблуждался в тщетности попыток Варвары Алексеевны. Только при ее наивности и вере в добро можно было рассчитывать на милосердие власти. Крайние утверждения всегда ложны. Конечно, раз-другой мелькнула у него слабодушная мыслишка: а вдруг?.. Но подготовленность к смерти была настолько прочна, что эти оскользы в чужую надежду не могли поколебать ее. Он не дрогнул, и о н и это видели.
Если же стиснулось сердце, то не из жалости к себе, а к ней, она-то всерьез верила... Он отказался от исповеди, но ждал последнего свидания. Он не собирался говорить о своем раскаянии, которого так и не испытал, и слюнявиться благодарностью не думал, он чувствовал совсем иное, о чем нельзя было сказать, да и не нужно. Он просто хотел увидеть ее лицо, глаза, рот, волосы, всю ее увидеть и унести с собой.
Разве это так много: дать умирающему увидеть в последний раз человека, который был добр к нему? Единственного человека. У него никого больше не было на свете. Много, очень много для того, кого убивают, и ровным счетом ничего для тех, кто убивает. Или им мало зрелища содрогающегося в петле тела?
Ее должны были пустить даже не ради него, а ради нее самой. Она больше нуждается в ободряющем жесте. В кивке, улыбке, взмахе руки, ей стало бы легче. Это важно, очень важно для всей ее последующей жизни.
Но ее не пустили. Даже для овдовевшей женщины не нашлось у них капли жалости.
И все же он верил, что она появится. Не может не появиться. Уже в тени помоста все еще верил, что увидит ее. Но когда его подтолкнули к ступеньке, он понял, что надежды нет, и душа в нем сорвалась с колков. Он закричал, пытался бежать, но, схваченный конвойными, забился в их руках и окончательно потерял себя. Он дрался, царапался, кусался, его опрокинули на землю и, воющего, окровавленного, с мокрыми штанами, поволокли к виселице. Всякое видали на этом плацу, но такого срама - никогда.
Когда Корягина втащили на помост и палач накинул петлю, сидящая в карете за караулкой дама в черном поднесла к глазам медальон с чертами дорогого лица и сказала голосом невыразимой нежности:
- Ты доволен, любовь моя?..