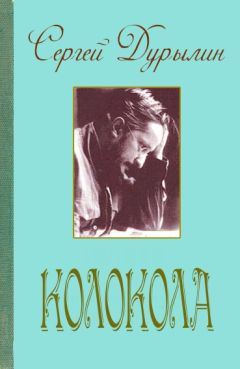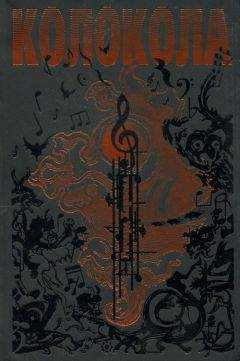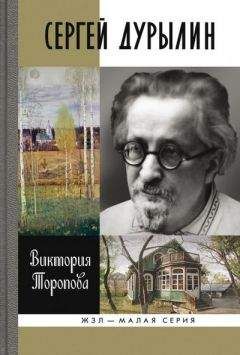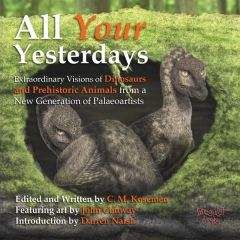Жил в Темьяне купеческий сын Вася. Он делал только два дела: книги читал и водку пил. Читать книги было тогда в Темьяне дело не обычное: читали только отец протопоп — по духовному своему сану, учителя гимназии и семинарии — по своему ремеслу, и помещик Лоначевский из поляков — по вольнодумству. Фаина Власовна, матушка Васина, со своими домочадцами и родственниками, приложила все усилия отучить Васю от пагубного дела. Книги сжигали и раз, и два, и три — Вася покупал новые. Носили книги, тайком от Васи, к старичку Егору Егорычу, травнику и корéннику, и он накладывал зарок на книгу, чтоб книга сама Васю от себя гнала, но книга не приняла зарок. Видели: Вася три раза перечел книгу с наложенным зароком. Егор Егорыч, хоть и объяснил, что ошибся зароком: не отвратный, а привратный на книгу наложил: оттого ее Вася трижды и прочел, — но и с отвратным зароком дело не поправилось: Вася читал да читал.
Тогда Фаина Власовна возроптала:
— «Пьян, да умен», люди говорят, «два угодья в нем», а «книгой учен — душой помрачен»: хоть бы вином от Васи книгу прогнать — виноградное-то вино в церкви благословляется, а книга где освящается?
По-прежнему осталось у Васи два занятия: прежде было — «читать» и «пить», теперь стало — «пить» и «пить». Году не прошло, — так хорошо утвердилось вино на книжном месте, что стал Вася видеть чёртиков — сначала обыкновенных, черненьких, которых все видят, потом черных с прозеленью, а потом и зеленых. Пока он их простым видкóм видывал и перемигивался с ними, Фаина Власовна терпела, но когда стал он в волосах у себя их искать и на гребень зелененьких вычесывать, тогда Фаине Власовне житья дома не стало. Вместо клопов и тараканов, по всем щелям завелись зелекáны, и под полом не крысы скреблись, а зеленыши с рожками. Тогда знающие люди присоветовали Фаине Власовне учинить большой чертогон, чтоб Васе сплошь не озеленеть. Для сплошного чертогона мало одного голоса человеческого: нужен тут иной голос, который для зелекáни ползучей и для зелененышей подпольных — не голос, а погибель. Научили Фаину Власовну отлить по обету разгонный колокол. А быть тому чертогону о полночь, когда все зелеканы выползают из щелей, а зелененыши вылезают из подполья.
Колокол был отлит. Пришлось просить отца протопопа, чтоб благословил ударить в колокол в неуказанное время, в самую полночь. Протопоп принял дары: малиновый «фай-франсе» на рясу — и благословил звонить, а для избежания соблазну, объявил, что хочет, по духовной некоей потребе, отслужить полунощницу. Ударили в новый колокол, будто к полунощнице, но ударили разгонным ударом, как положено ударять к чертогону: что ни удар, то бесу по морде.
Вася лежал во время звона на постели пьяный и видел во сне, как некий (В Темьяне черное слово не произносилось) переодевался из зеленого в черный мундир, но с теми же эполетами красного золота. Проснувшись по утру, Вася рассказал сон своей матушке. Фаина Власовна сыну ничего не ответила, а на тайном ее совете с понимающими людьми было порешено, что чертогон подействовал: в черном-то некоего и всякий православный человек может увидеть: это от Бога попущено — одним только басурманам некий вовсе не показывается — они и без того у него в кармане сидят. Зеленых же видеть — это уже свыше общего попущения, — а с того подзвонного сна Вася перестал видеть зеленых. С тех пор пошла про Васин колокол слава, что удачлив он на сплошной чертогон. В Темьяне не переводились люди, нуждавшиеся в чертогоне. Все они обращались к протопопу за благословением на чертогон. Протопоп им отвечал:
— Сего не благословляю. Но полунощницу отслужу и, по усердию вашему, будет учинен в ней, по уставу, звон полуночный.
Звон этот и был чертогон. Если в соборе ударяли ó полночь в Васин колокол, все знали: совершается чертогон.
У всех колоколов, кто не лишился языка, как Воеводин, у всех: у Голодая, у Разбойного, у Плакуна, у Княжина, у Наполеона, у Разгонного, у Васина — у каждого был свой голос, но все их голоса покрыл своим гýдом, густым и тяжелым, последний из всех колоколов, взошедших на темьянскую колокольню.
Его звали просто Соборный. На колоколе было обозначено: «2500 пудов 17 фунтов 2 лота». Истово вылиты были на колоколе Спас Нерукотворный, Казанская Богородица, Николай угодник; они сияли точно в золотых ризах: ставь свечу и служи перед ними молебен. По борту шла четкая надпись: «в благополучное царствование благочестивейшаго, самодержавнейшаго государя императора Александра Александровича всея России самодержца, при господине преосвященном Досифее, епископе Темьянском и Полуяровском… иждивением Темьянского I гильдии купца Ивана Ходунова отлит сей колокол на заводе братьев Самгиных в Москве».
Последний темьянский звонарь, Василий Дементьев, не любил эту надпись и когда, в праздничные дни, выпив, шел ударять к вечерне, он недружелюбно посматривал на Соборный:
— Ишь, паспорт какой выправили! И год прописали и звание.
Переведя взор на другие колокола, он весело подмигивал им:
— Эх, вы, беспаспортные!
Это бывало, когда Василий Дементьев был во хмельке, а в иные дни он с гордостью указывал любителям на изрядный вес Соборного: «что твой царь-колокол» — и на то, сколько чистого серебра влито в него братьями Самгиными, и рассказывал его историю.
История была проста.
Темьян был бесфабричный город. Темьянское небо, бледно-голубое и облачное, впервые дохнуло фабричного дыма, когда задымила бумагопрядильня 3-й гильдии купца Ивана Прокопьева Ходунова. Ходунов построил фабрику на пустыре, при въезде в город: пустырь продавался задешево. Фабрика была новое дело для Темьяна. Иван Прокопьевич строился на пустыре, на Разбойной горе, где никто не строится, а боялся не того, что фабрику, как некогда Разбойный двор, стрясет в реку, а того, как бы, растряся на нее свой кошель, не навести бы пустырь на свой карман. Но пустыря не получилось: фабрика бодро задымила, из фабричных ворот стал выезжать воз за возом с миткалем и ситцем — ситец вытеснял славную темьянскую домоткань. Скоро весь пустырь застроился фабричными зданиями. К тому времени, как Иван Прокопьевич переписался в I-ю гильдию, три высоких трубы, как пивные бутылки, подпирали низкое темьянское небо, а пустырь Разбойной горы сделался самым шумным местом в Темьяне. Когда Иван Прокопьевич задумал вывести третью трубу, он вздохнул и молвил: «Без Троицы дом не строится». Он уповал, что его фабрика, хоть не дом, но не без Троицы построена, и, подсчитав барыши за последний год, решил, что пришло время и Троицу поблагодарить. Он съездил в Москву и на заводе братьев Самгиных заказал для собора такой колокол, чтоб самый вес показывал крепость его благодарности за то, что крепко стоят три высоких трубы мануфактуры «Иван Ходунов с сыном».
Когда колокол был поднят на колокольню, на верхний ярус, до того остававшийся пустым, и, как тяжким молотом, ударил по воздуху тугою двухтысячепудовою медью, темьянцы ахнули. Кто снял шапку и перекрестился, кто, не снимая, перекрестился, но все поняли колоколову новую медную речь. Колокол объяснил им «Ивана Ходунова с сыном»: вот откуда взялась сила, пересилившая все другие, царские и не царские колокола на колокольне — от трех этих труб, дымивших на окраине Темьяна. Колокол гудел, а ржавые пивные бутылки подкидывали, не уставая, черные подачки дыма в бледное, нежно-сиреневое весеннее небо.
В этот день сам Иван Прокопьевич, в сюртуке, с большою золотой медалью на неподвижной шее, полученною за колокол, давал архиерею и губернатору обед по случаю поднятия колокола.
Обед затянулся и, когда подали кофе с ликерами, в соборе ударили в новый колокол к вечерне.
Услышав низкий могучий звук, архиерей, в вишневой рясе, поспешно перекрестился матовой худой рукой, а потом промолвил с улыбкой в сторону хозяина:
— Глагол времен, металла звон!
Хозяин почтительно склонил голову:
— Истинно так, Ваше преосвященство.
Предводитель дворянства, высокий худой старик в придворном мундире, известный своей многосемейностью, шепнул губернатору, допивавшему бокал шампанского:
— Насчет «глагола времен» не знаю: я туг на левое ухо, но «металла звон» слышен несомненно, и притом благородного металла, — и еще ближе наклоняясь к губернатору, еще тише прибавил: — которого нам с Вашим превосходительством, признаться, не совсем хватает.
Губернатор засмеялся и опорожнил бокал.
«Соборный» гудел во всю тяжесть своего благородного и неблагородного ходуновского металла.
— У колокола есть душа, — рассуждал любитель старины темьянской Хлебопеков Пафнутий Ильич, и хоть инспектор семинарии, темьянский историк Ханаанский, приходившийся внучатым племянником Чернышевскому, возражал на это, что в последнее время стало сомнительно не только относительно колокола, но даже и относительно человека, есть ли у него душа, — Хлебопеков спокойно отстранял возражение: