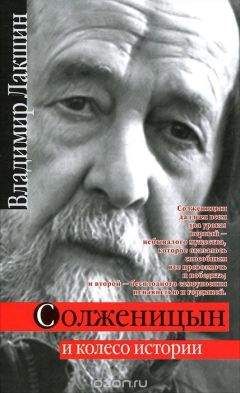Ознакомительная версия.
И теперь не знаю как же правильно оценить. Не сам же бы я понёс и донёс повесть к Никите. Без содействия Твардовского никакой бы и XXII съезд не помог. Но вместе с тем как не сказать теперь, что упустил Твардовский золотую пору, упустил приливную волну, которая перекинула бы наш бочонок куда-куда дальше за гряду сталинистских скал и только там бы раскрыла содержимое. Напечатай мы тогда, в 2-3 месяца после съезда, ещё и главы о Сталине - насколько бы непоправимей мы его обнажили, насколько бы затруднили позднейшую подрумянку. Литература могла ускорить историю. Но не ускорила.
Виктор Некрасов, нервничая, говорил мне в июле 1962 года:
- Я не понимаю, зачем такие сложные обходные пути? Он собирает какие-то отзывы, потом будет составлять письмо. Ведь ему же доступна трубка того телефона. Ну, сними трубку и позвони прямо Никите! Боится...
Характер Твардовского, действительно, таков, что ему тошнотно напарываться на отказ в просьбах. Говорили, что он переносит с мучением, когда просят его походатайствовать о ком-нибудь, о чьей-нибудь квартире: а вдруг ему, депутату Верховного Совета и кандидату ЦК, откажут? унизительно...
Можно допустить, что он и пoвести боялся повредить слишком прямым и неподготовленным обращением к Хрущёву. Но думаю, что больше здесь была привычная неторопливость того номенклатурного круга, в котором так долго он обращался: они лениво живут и не привыкли спешить ковать ускользающую историю - потому ли, что никуда она не уйдёт? потому ли, что не ими, собственно, куётся? А ещё была у Твардовского на несколько месяцев и некая насыщенность своим открытием, повесть довлела ему и ненапечатанная. Он, не торопясь, давал читать её Чуковскому, Маршаку - и не только, чтоб их именами подкрепить будущее движение рукописи, но чтоб отзывами этими и самому понаслаждаться, почитать их вслух и членам редакции и повезти хорошим знакомым (только мне не показал, боясь меня испортить). И Федину давал рукопись (тот никак не отнёсся), и не мешал дать прочесть Паустовскому и Эренбургу (недолюбливая, сам им не предложил). Он долго подгонял к повести предисловие (а собственно, его могло и не быть: зачем ещё оправдываться?). Так вёл
он многомесячную неторопливую подготовку, ещё не определив, как же продвигаться выше. Просто отдать в набор и послать в цензуру казалось ему губительно (да губительно и было): цензура не только запретит, но немедленно донесёт в "отдел культуры" ЦК, и тот успеет с враждебными предупредительными шагами.
А месяцы шли - и остывал, и совсем уже миновал пыл XXII съезда. Непостоянный во всех своих начинаниях, а тем более продолжениях, неустойчивый в настроении, Никита должен был ещё и поддерживать Насера, и снабжать ракетами Кастро, и изобретать окончательный (уже самый наилучший) способ спасения и полного расцвета сельского хозяйства, да где-то же и космос подогнать, и лагеря укрепить, ослабшие после падения Берии.
И ещё одна, неожиданная для Твардовского, опасность была в этом методе прочтений, рекомендаций и планомерной подготовки: в наш машинописный и фотографический век быстро растекались копии рукописи (кому достаточно было для этого суток, а кому и двадцати минут). В сейфе "Нового мира" исходные экземпляры хранились под строгим учётом, - а между тем уже десятки, если не сотни, перепечатков и отпечатков расползлись по Москве, по Ленинграду, проникли в Киев, Одессу, Свердловск, Нижний Новгород. Распространение подогревалось всеобщей уверенностью, что эту вещь никогда не напечатают. Твардовский сердился, искал "измену" в редакции, не понимая техники и темпов нашего века, не понимая, что сам же он, с этим сбором устных восторгов и письменных рецензий, был главный распространитель. Он всё мялся, не решался, месяцы шли - и вот наросла уже явная опасность, что повесть утечёт на Запад, а там люди попроворнее, - и, напечатанная там, она никогда уже не будет напечатана у нас. (Логика, вполне понятная советскому человеку и совершенно непонятная западному. Ведь для нас мир - не мир, а постоянно воюющие "лагеря", мы так приучены.) Пожалуй, эта опасность и заставила Твардовского поспешить. В июле он передал рукопись, окружённую букетом рекомендаций, эксперту Хрущева по культуре Владимиру Семёновичу Лебедеву.
Между тем меня Твардовский ни разу не звал, и я лишь по рассказам Берзер вызнавал, что там в редакции делается. Да начинал иногда знакомиться с людьми, уже читавшими мою повесть. После подпольного затишья два десятка таких читателей создавали для меня ощущение толпы и бурной известности.
Я спешил подготовиться к новому опасному периоду жизни. Одно дело прятать рукописи, когда я песчинка среди других таких же; другое - когда я открылся, и Лубянка может проявить более настойчивую любознательность, чем "Новый мир", и прислать своих неторопливых лоботрясов - поискать, что ж у меня написано ещё. Стал я пересматривать свои похоронки - и показались они мне слишком простыми, вполне отгадными для этих взломщиков. И я сам теперь некоторые взламывал и уничтожал, так чтоб не было и следа; дожигал все лишние варианты и черновики. Остального решил дома не держать, и под новый 1962 год мы с женой повезли мой хранимый архив к её приятелю Теушу в Москву (через три с половиной года он-то и будет захвачен опричниками). Этот переезд я особенно запомнил потому, что в праздничной электричке какой-то ворвавшийся пьяный хулиган стал глумиться над пассажирами. И так получилось, что никто из мужчин не противодействовал ему: кто был стар, кто слишком осторожен. Естественно было вскочить мне - недалеко я сидел, и ряжка у меня была изрядная. Но стоял у наших ног заветный чемоданчик со всеми рукописями, и я не смел: после драки неизбежно было потянуться в милицию, хотя бы свидетелем, с чемоданчиком ли, без - обое рябое. Вполне была бы русская история, чтоб вот на таком хулигане оборвались бы мои хитрые нити. Итак, чтобы выполнить русский долг, надо было не русскую выдержку иметь. И я позорно, трусливо сидел, потупя глаза от женских упреков, что мы - не мужчины.
Может быть не в такой постыдной форме, но так же отяготительно сколько раз моя изнуряющая литературная конспирация лишала меня свободы поступков, свободы высказываний, свободы выпрямленной спины. Всех нас гнуло, но меня ещё этот подвальный огрузняющий этаж как пригибал, сколько души отбирал от литературы. Все кости ноют, все кости просят - разогнуться!! - и хоть умереть.
Отвёз я архив, но из январской встречи в "Новом мире" понял, что в печать, собственно, ничто не идёт. В новом уязвимом положении надо было и дальше, совмещая со школой, писать в урывки дней. Была у меня потребность ещё в одной, последней, перепечатке "Круга", и с января 62 г. я рискнул. Четыре месяца, до конца апреля, ничем другим я не был занят, а в судьбе "Ивана Денисовича" только тем озабочен, чтоб лучше эти месяцы ничего не страгивалось, не менялось, пусть и не продвигается - лишь бы спокойно мне кончить роман.
И молиться было не надобно: ничего с "Иваном Денисовичем" и не стронулось. На майские праздники развёз я благополучно экземпляры отпечатанного романа, и ещё занимался разными доработками, и уж лето подошло, и надо было славно провести его в движении. Всё дело с "Новым миром" настолько казалось заглохшим (и к лучшему! - думал я, вернусь постепенно в безопасное состояние), что придумали мы с женой ехать на Енисей и на Байкал (был я в Сибири, но только в "Столыпине" и только до Новосибирска). Так и вышло по пословице "бедному жениться...". Именно в Иркутске, не ближе никак, ожидала меня копия срочной телеграммы Твардовского, приглашающего "на короткое время" заехать в редакцию.
Ещё до того "короткого времени" езды от Иркутска было четверо суток, и оставался Байкал неосмотренным.
Опять устроили всередакционное заседание. Неопределённо было мне объявлено, что в одной важной инстанции (это значило - B. C. Лебедевым) повесть моя одобрена. Но высказаны некоторые пожелания к её улучшению. Твардовский считал, что этих пожеланий совсем немного, и он бы очень просил меня выполнить их, не упустить появившейся возможности.
Он очень себя сдерживал, чтоб не ликовать слишком открыто. Детскость его проявлялась непогасимой радостью в глазах. Очень он был доволен своим удающимся многомесячным планом и только из редакционной церемонийности делал вид, что добавляет какие-то свои замечания, а иных от меня не хотел, лишь бы я принял лебедевские. Но так прямо он не говорил, а серьёзно вёл заседание и предлагал всем членам высказываться о необходимых исправлениях.
Говорили что-то, но никто ничего существенного, потому что не имели другой цели, как угодить Главному редактору, и не хотели даже иметь собственного мнения, от него отличного. Когда-нибудь с удивлением изучит и узнает история литературы, что эта свободолюбивая, самая либеральная журнальная редакция в СССР в эти годы поношения культа личности Сталина содержалась внутри себя по культовому принципу. (И это не Твардовский так сложил, это само так сложилось в журнале, естественно, по подобию всякой части своему целому, это сложилось как во всяком учреждении, во всяком звене советской системы, - только именно здесь это выглядело вопиюще, а у Твардовского не хватило простоты и юмора заметить это и растеплить.) Но Дементьев-то сидел здесь, и он-то видел, что лопается обруч, что выбивается крышка. Александр Григорьевич Дементьев, кто в злом 1949 году не замялся на должности палача-парторга ленинградской писательской организации, а в хрущёвские времена стал комиссаром самого либерального журнала, - кем-то же и зачем-то же был послан сюда? - долею освежиться, долею очиститься - но и не пущатъ же! Перед теми, кем послан был он сюда на полставки, но с ответственностью двойной, не мог он теперь признать авторитет даже хрущёвского референта и поддаться благодушию всей редакции. Деловой человек, он не спорил тогда, в декабре 1961-го, когда все меня хвалили и ласкали: он-то знал, что повесть эта всё равно не будет напечатана.
Ознакомительная версия.