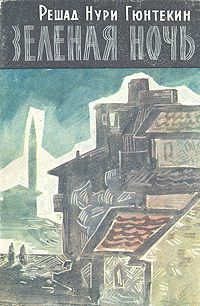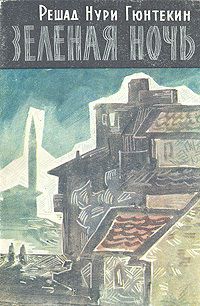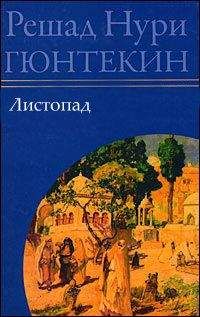вы не находите? Ладно, она женщина… Но с этими что? А что вы думаете по этому поводу?
Он не понимал, что дивизионному генералу спрашивать мнение офицера запаса — это и есть своего рода плач.
Почему мы все почувствовали печаль? Может, потому что на улице свирепствовала метель, и это вывело нас из равновесия. А может быть, по другой причине, которую я, как мне казалось, начинал понимать.
— Они плачут не из-за Хасана Минакяна. Они плачут, потому что вспомнили свое детство, паша! — ответил я генералу.
Генерал, наивно улыбаясь, одобрил мои слова.
— Да, вы правы, — сказал он. — Между нами довольно большая разница в возрасте… Однако мы с вами одного поколения. Когда я учился в военной академии, то тоже иногда убегал в театр «Конкордия». И за это не раз был наказан.
Немного в отдалении ходжа опять рассказывал о чем-то собравшимся вокруг него. Он говорил, что с ним приключилось из-за любви к театру. Его рассказ был словно ответом на наш разговор, поэтому мы тоже замолчали и прислушались. Он был морским лейтенантом. И если бы хорошо постарался, может, из него что-нибудь и вышло бы. Плюс ко всему ходжа оказался искусным оратором: к нему прислушивались. Краем глаза он заметил, что генерал смотрит на него, и продолжил:
— То, о чем я говорю, это не вымысел. Если сегодня ночью во всем Стамбуле погода такая же, как и в Коджамустафапаше [37], это значит, что старый майор в отставке жжет ненужные коробки и ящики, или же будущий благословенный шахит [38] бежит с корабля, стоящего на якоре в халиче, бежит подальше, чтобы играть в пьесе… Однажды летним субботним вечером в парке вместе с Хамди он играет в «Кровавой Нигяр». Он в роли Зенне. Спросите, почему в роли Зенне [39]? Да чтобы под покрывалом его никто не узнал… Но покойный маленький Исмаиль оступается и переворачивает все на сцене… Мушмула [40] летит в одну сторону, чаршафы и покрывала, — в другую. Тут представители закона ловят ходжу под покрывалом в подвернутых до самых колен штанах, с румянами на щеках и пудрой на усах…
— Знаю, знаю, я не был там, но слышал! — прокричал господин Сервет в полном экстазе.
— Вот спасибо тебе, — поблагодарил его ходжа и продолжил свой рассказ: — Казалось бы, после того позора взяться бы за ум! Но нет… На этот раз с приятелями вместе они собрались, чтобы играть в орта-оюну [41] в Сюлеймании [42]. И однажды ночью были захвачены врасплох… Даже господин Сакаллы Ахмет был с нами, — добавил ходжа, обращаясь к господину Сервету.
— Да, знаю, знаю… — опять стал поддакивать господин Сервет в волнении.
Оказывается, агенты донесли, что стамбульские младотурки [43] под руководством Ахмета Ризы [44] из Парижа готовят покушение на Абдул-Гамида… Но о какой подготовке могла идти речь, когда у нас в руках были только зурна, барабан да трещотки. Никто ни сном ни духом не ведал ни об Ахмете Ризе, ни о младотурках.
Услышав это, директор не упустил возможности его поддеть.
— Произнося речь на объявлении независимости, не ты ли орал: «Мы младотурки! Эту свободу мы завоевали своими руками!» — спросил он.
— Время требовало подобных речей, — ответил ходжа, обидевшись.
Он хотел было снова начать свой рассказ, но не смог проглотить обиду. Мысли его рассеялись. Он начинал и останавливался. Его заячья губа все время подрагивала.
— И ты тоже после войны за независимость произносил речь: «Республику мы завоевали!» Забыл, что ли? — сказал ходжа, после чего продолжил свой рассказ как ни в чем не бывало.
— На этот раз ходжу отправили не на корабль, а в жандармерию. Вот если б и на этот раз отделаться простым телесным наказанием! Однако не тут-то было! Без суда и следствия с него сорвали погоны. И отправили в ссылку в Адану. После ссылки, шатаясь по Анатолии, он осел в этом городке, женился…
Я посмотрел на господина Сервета, и мне стало интересно: может, он сейчас в поисках новой мечты или нового дела? Однако в настоящий момент он был простым поклонником театра.
— Друзья мои, мы должны с вами открыть театр! — воскликнул он. — От отца в Сирии мне кое-то осталось. Я как раз туда ездил улаживать дела. Все расходы я возьму на себя. Я уверен, что мы с вами создадим труппу лучше даже, чем в Дарюльбедаи… И, как в лагере Зеказик, во главе поставим господина Сулеймана. А здание под театр будет как у одного парижского театра — маленькое, зато все при нем. А пока оно будет строиться, мы начнем в другом месте… А потом возьмем и поедем на гастроли по Анатолии. Будьте уверены, что это будет театр, какого еще не было. Только вы мне должны обещать…
Это походило на коллективный сон, причем все спали с открытыми глазами. Ходжа, чтобы не возвращаться в реальность, в волнении закрыл глаза.
— Не может быть, такого просто не может быть, — повторял он. — Однако если все же возможно…
Потом, повернувшись к нам, он спрашивал у каждого, будем ли мы участвовать.
— Все будем, — ответили мы хором.
— Что нам терять! — произнес ходжа.
— Вы так думаете? — спросила Макбуле сквозь слезы.
— Дайте слово… — произнес господин Сервет с жаром. — Только дайте слово… И через несколько месяцев все будет готово.
— Я тоже с вами, — пообещал директор.
Ходжа злился на него за то, что тот портит все дело.
— Нет, ты не можешь, — язвительно сказал он. — Скоро станешь депутатом и будешь играть уже в другом месте!
Руки присутствующих, как в пьесе, для произнесения клятвы легли на стол. Ходжа клялся чуть не плача. Странно то, что среди вытянутых рук была и моя — холодная и неподвижная, готовая следовать всем желаниям и волнениям. Что может из всего этого выйти? Разве мы не проводим время, разве мы не развлекаемся? Разве мы не видим коллективный зимний сон, в котором ожили все наши детские мечты?
В детстве такие сны снятся часто, однако потом все идут своей дорогой, и никто даже не подумает обернуться, чтобы найти друг друга. Однако у нас все вышло совершенно иначе.
Многие годы я жил в Стамбуле в еврейском пансионе в районе Куледиби. Этот дом находится в одном из тихих проулков. Он до того стар, что его стены снаружи поддерживают подпорки. В этом доме