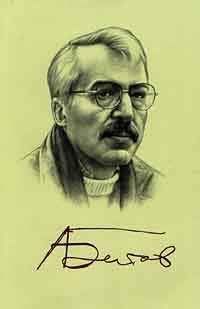никогда не сойдет со своей точки. А там дальше луг и опять что-то вроде ромашек, до самого горизонта. А если нет дождя, то над всем этим еще голубое небо с редкими взбитыми облачками.
Так вот, бочка, старая и ржавая, стояла на высокой насыпи, у самой колеи, и внизу была лужа. По насыпи полз зелененький дачный поезд. На подножке одного из вагонов сидел Петр Иваныч и ехал на дачу. Он вез туда большую подушку. Он сидел на подножке, обнимал подушку, и подбородок его покоился вверху. Ему было очень удобно сидеть вот так с подушкой, и он дышал воздухом, который совсем другой, чем в городе. А дождя в это время не было, и поэтому небо было голубое, с редкими взбитыми облачками.
И Петр Иваныч увидел множество ромашек и пушистый сосновый лесок, за леском блеснул ручеек, и Петр Иваныч увидел длинное непонятное строение и эту грустную лошадь, а дальше луг и опять ромашки… Он глубоко вздохнул, и что-то переполнило его.
И тогда он увидел рыжую бочку прямо перед собой и так близко, что ничего не стоило до нее дотянуться. В тот же миг Петра Иваныча озарило. Будто полыхнуло.
Озарение – вещь мгновенная:
он увидел перед собой бочку —
и пнул ее ногой
в совершенно естественном желании посмотреть, как эта пустая железная бочка, которая еле держится на краю насыпи, покатится глубоко вниз по этой насыпи
и шлепнется в огромную лужу,
и сколько при этом будет шуму…
И вот что произошло:
бочка осталась стоять на месте, нисколько
и не шелохнувшись,
а Петра Иваныча с подушкой
не оказалось на подножке.
То есть, совершенно невозможно себе представить, как закричал кто-то в тамбуре, и как они кричали дальше, между тем как поезд, что совершенно естественно, далеко уже проехал мимо бочки, где-то под собой оставив Петра Иваныча и увозя кричащих в тамбуре. Вполне понятно, что через некоторое недолгое время поезд все-таки стал, и из него вылетели и помчались назад по насыпи кричавшие в тамбуре и многие другие люди из поезда, может, даже весь поезд, и вот они высыпали и бежали назад по насыпи, рисуя себе ужасные картины.
И вот видят Петра Иваныча, если можно так сказать.
Он вырос вдруг, как из-под земли…
И вот он идет себе по шпалам им навстречу, широко и радостно улыбаясь,
и в руках у него —
две ромашки.
Апрель 1962
Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь… То есть не надо, а можно писать всю жизнь: пиши себе и пиши. Ты кончишься, и она кончится. И чтобы все это было – правда. Чтобы все – искренне.
Вот пишу и не знаю… Ведь чтобы писать искренне, надо знать, как это делать. Иначе никто тебе и не поверит, что у тебя искренне. Сделать надо.
Вот это-то и ужасно: все-то – литература…
А я такой-то человек. У меня есть люди, которых я люблю, люди, с которыми я знаком, люди, которых я не знаю. Все эти люди как-то меня знают, что-то обо мне иногда думают, когда есть к тому повод. А я совершенно не представляю, что они обо мне думают. Но мне кажется, они не допускают, что я какой-нибудь другой, чем они. Что я могу чего-то больше или хотя бы иначе, чем они. Я даже могу допустить: иначе быть не может. Ведь я же не представляю себе Иванова отличным от остальных…
То-то и оно. Все люди – центры. Два с половиной миллиарда центров…
Иногда я попадаю не в фазу. Периодически. Довольно часто. Не в фазу – значит, как-то все у меня не как у всех, все со мной подло, все из рук валится, надо одно – а хочется другого.
Ничего не получается.
Вот, например, с автобусами. Вдруг получается так, что они только что отошли. А мне как раз надо бежать. Например, я сажусь на остановке, где ходят 49-й и десятка. 49-й ходит очень редко, а десятка очень часто. Так вот, когда мне нужен 49-й, он подходит мало того, что редко, а еще втрое реже… А когда мне нужна десятка, подходят два 49-х. А десятка… Я всегда думаю: может, она с моста свалилась?.. Такое дело. Я всегда, когда езжу через мост в автобусе, думаю, а что я буду делать, если сейчас мы полетим в воду? Положим, мы не убьемся… Наверняка не убьемся. А вот, как быстро просочится в автобус вода?.. Думаю, напрягая мышцы, как я выбиваю стекло. И выныриваю. Пока все там гибнут в автобусе. Безусловно ведь, шофер не успеет открыть двери… Но вот я вынырну. И не вынырну, а только буду выныривать… А у меня в руках портфель, и на мне осеннее пальто. Это все набухает. Допустим, я умудрюсь сбросить. Я доплываю до быка, и взбираюсь, и сижу на нем, на остром ноже-ледорезе… И жалко пальто, которое сбросил, а оно совсем новое. И ботинок.
Так я думаю чаще всего, когда мне куда-нибудь очень, позарез надо, куда я еду. Что-то надо, ужасно надо сделать. Последний срок, последняя возможность. А мне удивительно неохота. Как раз сегодня было бы так прекрасно никуда не пойти, а остаться дома и спать. Или пойти в кино на утренний сеанс. Или выпить в автомате. А потом познакомиться с кем нибудь. И пойти куда-нибудь на Острова…
И вообще, зачем это?.. Кто мне объяснит, что это так уж обязательно надо – то, что ты делаешь? И почему бы не свернуть в сторону, не свалиться в реку в автобусе?.. И тогда бы тебя доставили домой, и ты бы с полным основанием забыл про все дела и ничего бы не делал из того, что обязательно, просто совершенно обязательно надо было сделать… А им бы потом объяснил, в чем дело. Кому – им?.. Сам не знаю. Вот свалился в реку, и так прекрасно: и ты и общество – полное согласие. И никто от тебя ничего не требует. Все прекрасно между тобой и обществом. Тебе сочувствуют… А раз такой пустяк – свалиться в реку – выход, и ты будешь прав, и все тебя оправдают, что не сделал того-то и того-то, что было так, позарез, надо… Если так… на кой хрен тебе вообще куда-то надо ехать? Кто это выдумал, что так надо?..
Написать бы книгу –