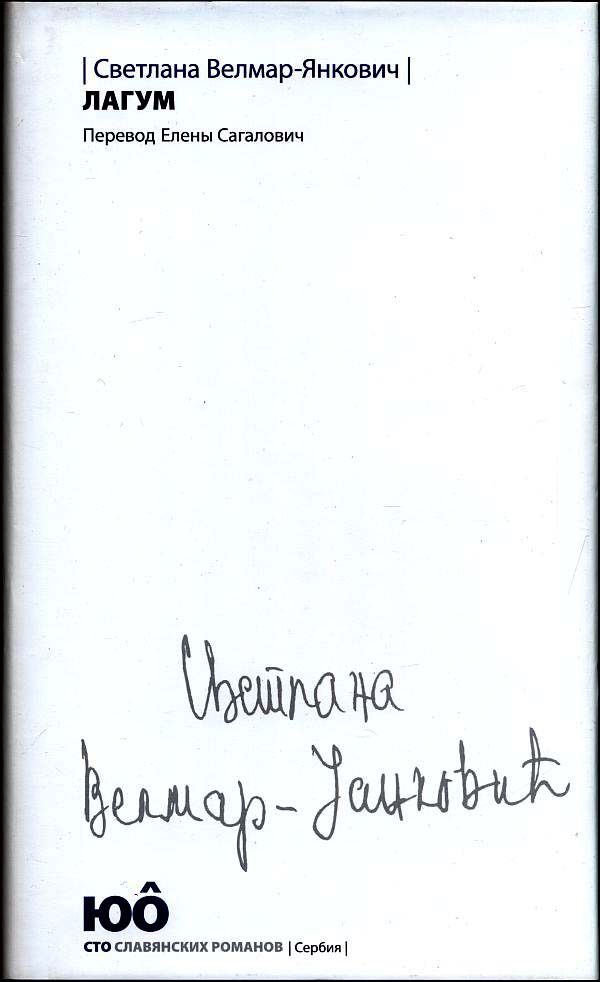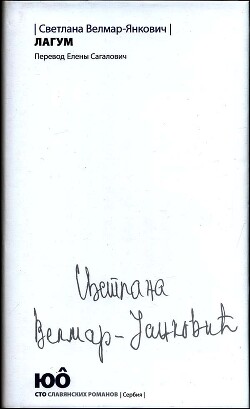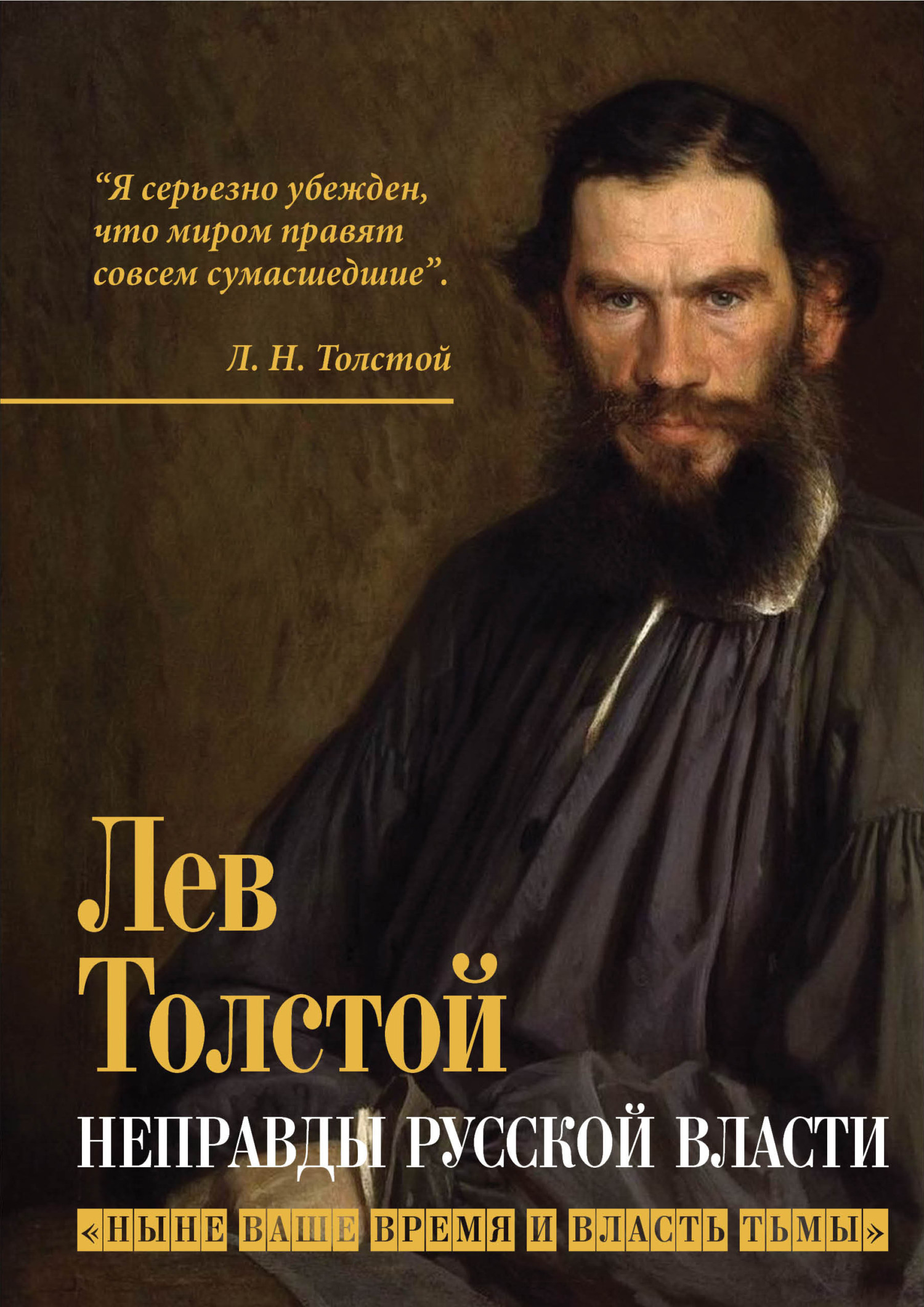как я была уверена, совершенно не привлекали, безошибочно указывала предплечьем, ладонью и пальцами на те полотна, которые для меня имели наибольшую ценность: сейчас на Шумановича, чуть раньше на Биелича [16], а до этого на Миловановича [17]. При этом она их, художников, называла по фамилиям, давая указания привратнику, который снимал картины со стен. И не только по фамилиям. «Аккуратно с этим маленьким Биеличем, — говорила она, — его приглушенный колорит очень чувствительный».
Колорит. Чувствительный. Приглушенный колорит. (Это, если я не ошибаюсь, были мои слова, которые я, вероятно, руководствуясь неприятным внутренним импульсом, произносила всякий раз, когда мы вместе делали в доме уборку. Горничные с белыми наколками и в белых фартучках исчезли, разумеется, вместе с той, уже неправдоподобной эпохой, которая называлась
до войны.) В любом случае, критерии ценности у бывшей
нашей Зоры, которые обнаруживались и в том порядке, в каком картины снимали со стен, полностью совпадали с моими, и я должна была признать, что училась она прилежно, даже когда казалось, что ничего не понимает и не воспринимает. Она меня провела: все запомнила и все знала. Я могла только поставить ей отличную оценку, круглую пятерку.
Но мои оценки ее не интересовали: если бы я тайком ее похвалила, то эта сильная девушка, бывший член моей семьи и моя бывшая наперсница, несомненно, сочла бы это оскорблением. Она сейчас, обратившись в товарища Зору, обрела право на самостоятельность, которую, похоже, надо было доказывать, прежде всего, готовностью к мстительности и ненависти. И в этом случае преображение, немыслимое, хотя оно свершилось действительно у меня на глазах, было полным: в товарище Зоре не было ни капли безобидности или невинности, преданности нашей розовоперстой Эос. В ее изменившемся зрении я, наверное, выглядела, как червь, вошь, вредитель, которого как можно скорее надо растоптать.
Помню тот вечер. Тогда я не различала, и вряд ли могу различить сейчас (это сейчас, которое тикает спустя сорок лет), который по счету это мог бы быть вечер после ухода Душана: второй, третий, пятый? Мы все стояли в комнате, уже частично освобожденной от предметов, благодаря которым она называлась кабинетом: мы стояли в комнате, в которой мой муж обычно работал, все, — а это слово означало тех, кто в этой комнате остался, потому что Душана здесь больше не было, он здесь больше не работал. Никто здесь больше не работал. Я смотрела, погрузившись в собственную пустоту, на стены, которые, оголившись, стали не только уродливыми, но и смешными, на картины, аккуратно сложенные на письменном столе, на канапе и креслах, на пачки бумаг, густо заполненных четким и заостренным почерком Душана, на перевязанные бечевкой стопки книг, тех, в старинных кожаных переплетах с золотым тиснением, немецких, французских, венгерских, — они были распиханы по бельевым корзинам. Эти вещи больше не имели ко мне никакого отношения не только потому, что, и это бесспорно, больше не были нашими: в наступившем хаосе я ощущала очень четко, как прикосновение какого-то неумолимого клинка, как исчезают целые системы ценностей, и здесь только бельевые корзины оставляли впечатление чего-то близкого и осмысленного.
(И вот еще слово, которое, в основном, потерялось, потому что предмет, который оно обозначало, в основном, больше не используется. Бельевая корзина, сплетенная из камыша, большая, как корыто, хотя были и меньшего размера, с двумя ручками; в эту корзину складывали выстиранное, прокипяченное, обычно в щелоке, а потом выполосканное и выжатое «большое белье», до развешивания, летом во дворе, а зимой на чердаке, для просушивания. Всегда стирали «большое белье», потому что никому никогда не пришло бы в голову стирать «постельные принадлежности».
Какая ностальгия по «большому белью», — наверняка сейчас усмехнулась бы моя дочь, и, разумеется, опять была бы права. — Ностальгия, которую никак нельзя было ожидать от тебя, мама. Что поделать, стиральные машины превратили в отбросы прошлого сначала прачек, а потом и их бельевые корзины, которые Тебе, Тебе, вдруг почему-то стали милы. И наполнены смыслом. Ох, боже. Да, слово белье, старинное, в смысле постельного, заменили на постельные принадлежности и Wäsche, на немецкий манер, — оно все больше остается в уходящем времени. Ты не находишь, что это естественный языковой процесс? Мама? — Нахожу, конечно, очень естественный, так всегда было, что какие-то слова исчезают, а другие возникают, язык, он живой, но я нахожу, что твои идиомы, — вот, и я использую это слово, которое с некоторых пор в моде, — такие, как отбросы прошлого, ужасны.)
Все — это были они и я: они стояли в центре совершенно изменившейся комнаты, я — в одном из углов, заполненных картинами, прислоненными к софе и креслам. Они были уникальны в своей новой идентичности, построенной на беспамятстве; майор никогда не был ни армянином, ни бакалейщиком, наблюдатель за мной никогда не был привратником, товарищ Зора никогда не была нашей Зорой; я была уникальна в отсутствии своей новой идентичности; всё, чем была, этим я, несомненно, больше быть не могла, но не могла и забыть, чем я была.
Майор меня уведомил:
— Это, именем народа, изымается.
— Всё? — спросила я. — Все картины, все книги, вся мебель?
— Всё, что принадлежит вашему мужу.
— Не всё принадлежит моему мужу. Кое-что принадлежит и мне. Лично мне.
— Вы это будете доказывать.
— Где? Когда?
— В народном суде, гражданка. Теперь у власти народ, и он судит. Все, что изымается, это народная собственность. Мы составим опись всего: и картин, и книг, и мебели — ценностей, которые теперь принадлежат народу.
— А что будет с моим мужем?
— Его будут судить.
— Когда?
— Не знаю. Это не входит в мои полномочия. Вас известят. И не ходить по всей квартире: вы с детьми будете жить в комнате, которую называете детской, вы имеете право на пользование кухней и ванной. Той, у детской, белой. Заходить будете с черного хода, через балкон, что во дворе. Все остальные помещения мы реквизируем для наших нужд. Из этих помещений вы больше ничего не можете забрать, как не можете больше в них заходить. Ясно?
Было ясно.
Неясным оставался, — но об этом я вспомнила почти четверть века спустя, в 1968-м, — один вопрос, который мог бы быть интересен с юридической точки зрения: почему вещи из тех «остальных помещений», в которые мы и не могли, и не должны были заходить, ни дети, ни я, вместо того, чтобы перейти в собственность народа, перешли в собственность товарища Зоры? (Нет, не майора, разумеется. Невозможно было даже представить себе такое. В наступивших временах, которые содрали с него ложную, бакалейную шкуру, настоящая