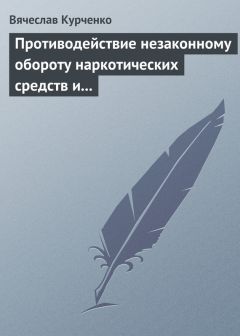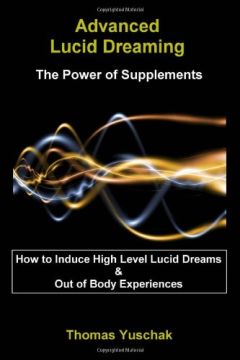весь он казался слабее и меньше, чем прежде. Он не ухаживал за собой, отчего борода его отросла и выглядела небрежной, волосы спутались и засалились, под глазами зияли темные круги, выдавая бессонные ночи, полные терзаний и беспокойства.
После первого же рабочего дня Парфен забежал домой на быстрый ужин, и тут же стал собираться уходить. Карина, укладывавшая в этот час младшего ко второму сну, выскочила из комнаты, преградив мужу путь к двери. В спальне пронзительно и жалостливо заплакал так и не уснувший Митя.
– Куда опять? – Вскрикнула она.
Красивое лицо ее с тонкими бровями, круглыми щеками и голубыми глазами, обрамленное длинными золотистыми волосами, исказилось от раздражения, давно зревшего в ней. Парфен замешкался на мгновение: такой он жену, быть может, еще не видел. В прошлые дни Карина неоднократно высказывала ему свое недовольство, но сегодняшний поступок, когда она, как кошка, выпрыгнула перед ним, будто готовясь вцепиться в него когтями, чтобы удержать дома, выходил за грани всего плохого, что Парфен мог представить или предвидеть.
– Ты знаешь, куда.
– Вы уже все учреждения обзвонили. Милиция ищет ее. Что тебе еще нужно?
– Я буду ходить по улицам, по подворотням, может быть, я все-таки найду ее.
– Живой?
– Вряд ли.
– Тогда и смысла нет искать! Умерла она давно!
Лицо Парфена, и без того угрюмое с того самого дня, как он узнал о пропаже Тани, совсем потемнело. А в спальне меж тем заливался отчаянным криком всеми забытый Митя.
– Что же ты за человек такой! Как так можно говорить? Ведь она девчонка совсем…
– И что? Теперь нам не жить из-за нее? Это чужой нам человек… Переехала сюда года два назад…
– Так ведь это сестра нашей соседки…
– Мы и сами-то здесь всего несколько лет живем!
– Как же ты не понимаешь…
– Что? Что не понимаю? – Спросив это, Карина, пораженная подлой догадкой, зло засмеялась. – Ты что, втюрился в нее перед исчезновением?
Парфен почувствовал, как во рту у него заскрипели зубы от ярости.
– Какая же ты все-таки… жестяная… Неужто не понимаешь… Человек пропал! Почти ребенок! Неужто ты ничего не чувствуешь? Никакого сострадания? Ведь ты сама – мать!
Как он захотел сказать ей в это мгновение правду, выплеснуть на нее все угрызения своей беспощадной совести, чтобы Карина хотя отчасти поняла его муки, поняла его отчаяние, поняла, какие страшные мысли преследуют Парфена в последние дни. Как каждую ночь он просматривал такую теплую, такую желанную сцену в ускользающем сне: у подъезда, встретив нациста, Парфен что есть мочи бежит за Таней, хватает ее за локоть, а затем тащит в свой автомобиль, или в подъезд, куда угодно, где запирает дверь, и девушка оказывается в полной безопасности. Как он тысячи раз спрашивал себя под хлесткими ударами совести, почему он не окликнул тогда Таню, почему не настоял на том, чтобы просто подвезти ее? Пусть опоздал бы на работу, пусть вовсе пропустил бы рабочий день, но девушка была бы жива, в ее юном, почти детском теле сейчас билась бы жизнь…
Ведь видел по глазам, все понял по одному лишь виду нациста, вмиг разгадал, что он садист, изувер, мясник, разгадал, что тот смотрел на Таню как волк на овцу: со звериным сладострастием. А если видел, если знал наперед, что так будет, то почему же не остановил это жуткое преступление, почему не предотвратил страшное и непоправимое? Что за равнодушие, что за безволие поселилось в нем, что в нужный миг он не смог сделать правильный выбор? Значило ли это, что он ничтожный, конченый человек, совершенная тряпка?
А затем другой голос, едкий, недобрый, жесткий, вопрошал его:
так что же с того, что теперь его грызла ядовитая совесть? Разве самые ее укоры не были в то же время оправданием самому Парфену: смотри, дескать, я хороший человек, раз осознаю свою вину и преступное бездействие?..
Ничего этого было не нужно Парфену: ни угрызений, ни самобичевания – все было ложью, все обманом. Нужно было лишь действовать, действовать, пока душа, если она была в нем, не угомонится. Но как, как было все это рассказать Карине? Да и зачем было беспокоить ее, когда у нее на руках был один младенец и второй еще маленький ребенок? У нее, как у окатившейся кошки, были совсем другие заботы; она и шипела, и кидалась на него как разъяренная самка.
Совершенно внезапно для себя он сказал совсем иное:
– Уезжать отсюда надо, Кариш, уезжать.
– Уезжать? Но куда же?
– Домой.
– В Донецк? Да что с тобой? Это исчезновение как будто свело тебя с ума!
– Вот именно! – Он говорил, не кричал, не восклицал, и голос его был зловеще спокоен, отчего Карине на мгновение показалось, что догадка ее была верна. – Быть может, это то, что нужно было: бессмысленная смерть молодого и невинного существа… Как знамение! Грядет что-то страшное. Все течет, все меняется… в худшую сторону. Город заполонили западенцы, нацисты, извращенцы, которые вечно на наркоте. А у нас маленькие дети. Митя орет-разрывается, неужели ты не слышишь?!
– Ты… пугаешь меня.
И все-таки он ушел! И хотя Карина только что испугалась за мужа, жалость мгновенно уступила место раздражению, она не смогла скрыть недовольства: губы ее скривились от закипавшей в ней ярости, а на его прощание женщина ничего не сказала в ответ, лишь с силой захлопнула за ним дверь.
Шли недели, и вот завершились новогодние праздники, а Киев окутал белой пеленой седой февраль. Каждый шаг давался с трудом, метель усиливалась, мостовые покрылись высоким слоем снега, и ноги так и увязали в нем, размешивая белый порошок. Прохожие, закутываясь в шубы, дубленки и куртки, ежились, поднимали плечи, наклонялись вперед, словно так пытаясь прорваться сквозь колючую белую мглу. Еще тяжелее было молодым мамочкам, тянувшим или толкающим коляски с детьми, даже полозья саней, пристроенные к коляскам вместо колес, казалось, были беспомощны, когда столь неистовый снегопад обрушился на город.
Парфен был будто в тумане, глаза слепила снежная крошка, острая, колючая, вьюжная, ранившая кожу и застилавшая улицы непроглядной мглой, он шел, не видя ничего перед собой. Ледяной ветер задувал в рукава и воротник, продувал куртку насквозь, и ему казалось, что он был почти раздет и ничего не мог противопоставить суровому морозу, не различавшему среди природы и городской природы людей и живых существ, оттого не ведавшему ни жалости, ни сострадания.
То, что казалось еще несколько недель невероятным, все же стало явью: несмотря на бесконечные поиски и даже некоторую работу милиции Танино тело до сих пор