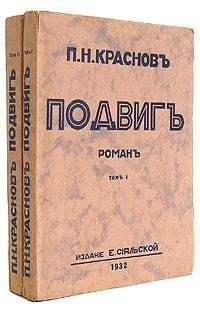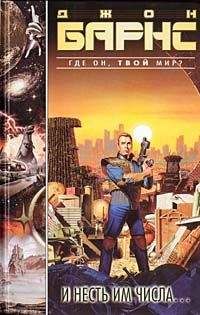И ни минуты наединѣ!.. Тутъ было не двѣ сотни арестантовъ, какъ въ «Мертвомъ домѣ«, но въ такихъ же холодныхъ, сырыхъ и смрадныхъ землянкахъ помѣщались десятки тысячъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей. Населенiе цѣлой губернiи было собрано со всей Россiи и брошено сюда на умиранiе.
Теплая вода съ капустными листьями, съ плавающей въ ней вонючей воблой, окаменѣлый, похожiй на глину, даже и въ водѣ не размякающiй хлѣбъ — были ихъ пищей. Они не имѣли ничего своего и не могли заниматься своими работами. Ихъ одѣвали въ платье и бѣлье, снятое съ загнивающихъ труповъ, надъ ними издѣвались надсмотрщики чекисты. Среди чекистовъ было щегольствомъ, своеобразнымъ шикомъ, выдумать особенное нравственное мученiе, изобрѣсти острую физическую боль, унизить и оплевать человѣка.
Чекисты складывали обнаженные трупы у входа въ женскую уборную и держали ихъ тамъ до полнаго гнiенiя. Они тщательно наблюдали за поднадзорными и, если замѣчали какой-то проблескъ радости у арестанта, — они доискивались причины ея и уничтожали ее.
Это было совершенное подобiе ада. Никакая фантазiя не могла выдумать болѣе совершенныхъ мученiй для человѣка. Самъ дьяволъ смутился бы отъ совершенства человѣческой подлости и гнусности, отъ смѣси жестокости и наглости, изобрѣтенныхъ большевиками для своихъ каторжанъ.
Когда въ мутномъ сѣверномъ разсвѣтѣ, босые, въ опоркахъ, въ лаптяхъ, въ какихъ-то остаткахъ бывшей когда-то обуви эти люди, звеня кандалами, тянулись въ
лѣсъ, чтобы рубить и пилить деревья, и кругомъ нихъ шли чекисты охраны съ ружьями, въ теплыхъ полушубкахъ и шапкахъ — казалось, что идутъ одни чекисты, а между ними страшнымъ призракомъ тянется сѣрое видѣнiе изможденной толпы мучениковъ, скользитъ и колеблется, будто безплотное. Странно было думать, что эти люди идутъ работать. Какъ могли они работать, когда, казалось, въ нихъ не оставалось и малой искры жизни?
У каторги «Мертваго дома» были свои пѣсни, она даже устраивала спектакли. Эта каторга не пѣла. Она не слагала своихъ арестантскихъ каторжныхъ пѣсенъ. Она никогда и никакъ не «гуляла». Она быстро и вѣрно вымирала, и одни, хороня другихъ, знали, что и ихъ ждетъ такое же закапыванiе въ землю безъ обряда и молитвы, какъ падали.
И при всемъ томъ всѣ они сознавали, что они то менѣе всего походили на каторжниковъ. За ними не было никакого преступленiя, и никакъ не могли они себя назвать въ этомъ отношенiи: «грамотными». Они не были «погибшимъ народомъ», они умѣли — и еще какъ! — жить на волѣ. Были среди нихъ богатые, степенные мужики, крѣпкiе хозяева, трудолюбивые земледѣльцы, купцы и ремесленники, были офицеры, инженеры, профессора, учителя … Они «слушались отца и матери» — за что же выпало на ихъ долю теперь — слушаться «барабанной шкуры»? Они «шили золотомъ» — они работали и трудились — такъ за что же ихъ теперь послали «бить камни молотомъ»?..
Жестокая эта несправедливость, зло, казалось, вопiющее къ небу ихъ постоянно мучило, терзало и оскорбляло, но оно же давало неизсякаемую надежду, чистую, глубокую вѣру, что все это простое недоразумѣнiе и что это неизбѣжио должно имѣть конецъ. Добро должно восторжествовать надъ зломъ. Они были сосланы на большiе сроки и видѣли, что тутъ рѣдко кто и годъ выживаетъ, а все ждали правды Божiей, своего — просто чудеснаго освобожденiя. Наканунѣ смерти изсохшiй, изголодавшiйся совѣтскiй каторжникъ, трясущiйся въ послѣдней лихорадкѣ, жадно глядѣлъ вдаль, за рѣку, гдѣ по низкому берегу ледяной вѣтеръ мелъ песокъ и шевелилъ голыми прутьями жидкой осоки, и ждалъ, ждалъ, ждалъ чуда освобожденiя, прихода созданныхъ долгими мечтами «бѣлыхъ» …
И все-таки тутъ — жили.
Въ три часа ночи, когда вся казарма-землянка была погружена въ мертвый, кошмарный сонъ, когда воздухъ былъ такъ тяжелъ и густъ, что, казалось, выпретъ узкiя, запотѣлыя стекла изъ рамъ, или подниметъ тяжелую, землею заваленную крышу, въ углу казармы внезапно чиркала спичка, вспыхивала синимъ бродячимъ пламенемъ совѣтская сѣрянка, мигала, качаясь и разгораясь и, наконецъ, зажигала свѣчу.
Это Ѳома Ѳомичъ Ѳоминъ садился читать запрещенную книгу — Библiю. И сейчасъ же, точно, кто ихъ растолкалъ, поднимались его сосѣди — Венiаминъ Германовичъ Коровай, Бруно Карловичъ Бруншъ, Сергѣй Степановичъ Несвитъ, Гуго Фердинандовичъ Пельзандъ, Владимiръ Егоровичъ Селиверстовъ и Селифонтъ Богдановичъ Востротинъ.
И здѣсь, какъ въ «Мертвомъ домѣ«, не было принято говорить, за что кто сидѣлъ, но совсѣмъ по другой причинѣ. Прежде всего почти никто и самъ не зналъ, за что его сослали. Здѣсь тоже доносы, интриги и сплетни процвѣтали, а многiе тутъ жили подъ чужими именами и тщательно скрывали свое прошлое, ибо весьма часто это прошлое грозило смертью. Такъ Коровай никому не открывался, что въ прошломъ онъ былъ уѣзднымъ исправникомъ, Бруншъ никому не разсказывалъ, что онъ — профессоръ физики, юноша, мальчикъ Несвитъ — братъ Русской Правды, у Пельзандта былъ свой аптекарскiй магазинъ, Селиверстовъ въ Великую войну командовалъ батареей, а Востротинъ былъ богатый и домовитый казакъ.
Къ этой зажигаемой въ глубокой ночи Ѳоминымъ свѣчкѣ ихъ всѣхъ влекла жажда услышать какое-то другое слово, а не вѣчную дневную ругань и свары каторжанъ и чекистовъ. Ихъ влекъ къ себѣ и особенный, не похожiй на другихъ характеръ Ѳомы Ѳомича. Ѳоминъ никого и ничего не боялся, открыто говорилъ всякому все, что было у него на душѣ и полнымъ равнодушiемъ, даже какимъ-то восторженнымъ отношенiемъ къ пыткамъ и наказанiямъ сражалъ самыхъ свирѣпыхъ чекистовъ. Съ нимъ было прiятно поговорить, онъ такъ просто и откровенно высказывалъ и «исповѣдывалъ» свою ничѣмъ непоколебимую вѣру въ Бога и Его милосердiе. Онъ все говорилъ безъ совѣтской утайки, безъ вранья и оглядки.
Онъ появился на каторгѣ только лѣтомъ, и не всѣ знали его исторiю.
— Вы спросите его, Бруно Карловичъ, — шепнулъ профессору Коровай, — какъ онъ сюда попалъ. Казалось бы простая совѣтская исторiя, а такъ онъ ее разскажетъ — театра никакого не надо.
— А онъ не обидится?
— Что вы! Простой совсѣмъ человѣкъ. Очень обязательный.
Профессоръ спросилъ.
— Я то съ?.. Вы спрашиваете за что? — быстро и дѣйствительно очень охотно отозвался Ѳоминъ. Все его лицо, въ сѣдыхъ космахъ бороды, освѣщенное снизу свѣчою, покрылось сѣтью маленькихъ морщинъ. — Прежде всего, сударь, надо вамъ сказать, кто я есть? Ибо съ этого моего происхожденiя и вышла вся моя печальная исторiя. А есть я — Ѳома Ѳомичъ Ѳоминъ, и наше имя во всѣ роды черезъ ѳиту писалось … И родитель мой и всѣ наши были, что называется, съ ѳитою. Сестрица у меня Ѳекла, а дѣдушка Ѳедоръ, сами, при своемъ образованiи, понимаете, какъ должны такiя имена изображаться. Вотъ съ этой самой ѳиты и начались всѣ мои несчастiя.
Ѳома Ѳомичъ помолчалъ немного, пожевалъ губами и добавилъ съ какою-то печальною укоризною:
— Они меня, знаете, черезъ ферта прописали.
— Ну и что же дальше? — сказалъ профессоръ, когда Ѳоминъ не сталъ продолжать свой разсказъ.
— Такъ вотъ въ виду, знаете, такой ихъ неделикатности, пошелъ я въ комиссарiатъ объясняться. Тамъ, знаете, молодой такой человѣкъ и говоритъ мнѣ, что ѳита, молъ, еще при временномъ правительствѣ упразднена, нѣтъ, значитъ, совсѣмъ ѳиты. Я, васъ гражданинъ, спрошу, что развѣ можно человѣка упразднить, если онъ, и отецъ его, и весь родъ его съ ѳиты начинается?.. Конечно же нельзя. Всякiй это понимаетъ. Я имъ все это и разъяснилъ. А тотъ, знаете, человѣкъ, что онъ про себя изображаетъ, Богъ одинъ знаетъ, грубо и нагло, съ нахрапомъ сталъ на меня кричать: — «мы можемъ и тебя самого упразднить, ежели много тутъ разговаривать будешь». Я имъ и говорю: «отлично я васъ понимаю, что вы можете къ стѣнкѣ поставить и человѣка вывести въ расходъ, но фамилiи уничтожить вы никакъ не можете, на это у васъ уже нѣтъ власти, и она какъ была, такъ и остаться должна съ ѳитою … Вотъ съ этого и стали они, знаете, меня преслѣдовать. He понравился видно, я имъ. Кто я? Кронштадскiй мѣщанинъ и имѣлъ даже свою мелочную лавочку на Зеленной улицѣ. Скажите, можно развѣ упразднить и то, что я мѣщанинъ? Это можетъ сдѣлать только царь или, если по суду — лишенiе правъ. Они, знаете, мою лавку упразднили, можно сказать, въ два счета-съ. Просто сказать — разграбили. Это мнѣ очень даже понятно. Когда революцiя, когда генералы царя арестовали — тогда что же!.. Мелочную лавку разграбить тогда за милую душу, конечно, можно. На это у меня къ нимъ претензiи никакой даже нѣтъ. Народъ, значитъ, гуляетъ, свои права взялъ. Мнѣ его права очень понятны: гуляй, пьянствуй, на твоей улицѣ праздникъ. Капиталъ у меня, однако, былъ припрятанъ. Я перемогся, выждалъ, знаю, все одно безъ меня никогда не обойдутся. Какъ можетъ быть государство безъ мѣщанина? Вижу, съ голоду пухнетъ по городамъ народъ. Торговля — мнѣ дѣло съ измалолѣтства знакомое. Занялся я мѣшечничествомъ. Черезъ короткое, значитъ, время и этого оказывается нельзя. На вокзалахъ пошли обыски, даже, правду сказать, разстрѣливали за это … Значитъ — упразднили они и мѣшечниковъ… Я опять малое время перебился, потому понимаю, что все это временно и безъ торговли они все равно никакъ не проживутъ. И точно-съ скоро появились то, что называется «частники». Ну и я сталъ, зна-читъ, «частникомъ» … Названiя какiя ни придумывай, дѣло остается одно — торговля, дѣло мнѣ хорошо знакомое. Я свое дѣло понималъ, кому надо дать — давалъ, нельзя въ нашемъ дѣлѣ безъ этого… Но-о, — Ѳома Ѳомичъ тяжко вздохнулъ, — но, упразднили они, значитъ, и частника. Остался я безъ дѣла и сталъ по завѣту отцовъ и дѣдовъ нашихъ писанiе читать. Опять же книгу священную Библiю читать надо умѣючи. Вотъ они говорятъ, — Ѳома Ѳомичъ кивнулъ на профессора Брунша, что это есть только исторiя Еврейскаго народа …. Это по ихъ, такъ сказать, свободомыслiю такъ только имъ представляется. Эта книга есть пророческая, и на всѣ времена и вѣки отвѣчающая книга. He всякому, конечно, дано понимать, что къ чему отношенiе имѣетъ, однако, имѣлъ я случай убѣдиться, что тамъ и всѣ наши теперешнiя дѣла ранѣе предусмотрѣны.