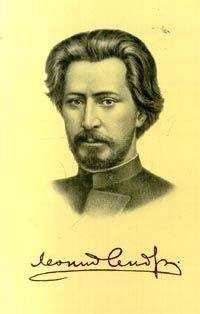Повернув головы, испуганно смотрят женщины.
— Вы видите? — говорит одна. — Это еще хуже, чем огонь на кладбище. Кому нужен свет среди гробов?
Мариетт. Становится холодно к ночи, и матрос бросил сучьев в камин, вот и все. По крайней мере, я так думаю.
— А я так думаю, что аббат давно должен был пойти туда с кропилом.
— Или с жандармами! Если это не сам дьявол, то наверно один из помощников его.
— Нельзя спокойно жить с таким соседством.
— Страшно за детей.
— А за душу?
Две пожилые женщины поднимаются молча и уходят. Встает и третья, старуха:
— Нужно спросить у аббата: не грех ли еще и смотреть на такой огонь?
Уходит. Все больше дыму в небе, и все меньше огня, и уже близок к своему темному концу неведомый город; сильнее и крепче пахнет море.
С земли идет ночь.
Повернув головы, женщины смотрят вслед ушедшей; и снова поворачиваются к огню.
Мариетт, заступаясь за кого-то, говорит тихо:
— В огне не может быть плохого. Огонь в свечах, что перед Господом.
— Огонь и в аду перед Сатаной, — сердито шамкает вторая старуха и уходит.
Теперь осталось четверо и все молодые, все девушки.
— Я боюсь, — говорит одна, прижимаясь к подруге.
Кончается на небе бесшумный и холодный пожар, разрушен город, разрушена неведомая страна. Уже нет ни стен, ни падающих башен, — груда синевато-бледных исполинских тел безмолвно падает в бездну океана и ночи. Трепетными очами взглянула на землю молоденькая звёздочка; возле замка захотелось ей появиться из облаков и от невинного соседства темнее стал тяжелый замок, краснее и сумрачнее огонь в его окне.
— Прощай, Мариетт, — прощается девушка, та, что сидела одна и уходит.
— Пойдем и мы, становится холодно, — говорят те две и встают. — Прощай, Мариетт.
— Прощайте.
— Отчего ты одна, Мариетт? Отчего днем и ночью и в будни, и в веселый праздник ты одна, Мариетт? Ты любишь думать о своем женихе?
— Да, люблю. Люблю думать о Филиппе.
Девушка смеется.
— А видеть его не хочешь? Когда он уходит в море, ты часами смотришь на море; возвращается он — и тебя нет. Куда ты прячешься?
— Я люблю думать о Филиппе.
— Как слепой бродит он среди домов и все зовет: Мариетт! Мариетт! Вы не видали Мариетт?
Уходят, смеясь и повторяя:
— Прощай, Мариетт… Вы не видали Мариетт?.. Мариетт…
Девушка одна. Смотрит на огонь в замке. Прислушивается к тихим и нерешительным шагам.
Из-за церкви справа выходит старый Дан, невысокий, сухой, кашляющий старик с бритым лицом. От нерешительности ли или оттого, что слаб глазами, идет он неуверенно, к земле прикасается осторожно и с некоторым страхом.
— Ого! Ого!
— Это ты, Дан?
— Я.
— Море тихо, Дан. Ты будешь сегодня играть?
— Ого! Семь раз я ударю в колокол. Семь раз я ударю и отошлю Богу семь Его святых часов.
Берет веревку от колокола и отбивает часы — семь звонких и долгих ударов. Ветер играет с ними: роняет на землю, но, не дав коснуться, подхватывает нежно, покачивает тихо и с легким присвистом уносит в глубину темнеющей земли.
— Ох, нет! — бормочет Дан. — Плохие часы, они падают на землю. Это не его Святые часы и Он отдает их назад. Ой, идет буря! Господи, сжалься над погибающими в море.
Бормочет, кашляет.
— Дан, сегодня я опять видела корабль. Ты слышишь, Дан?
— Много кораблей уходит в море.
— Но этот на черных парусах. Он опять шел на солнце.
— Много кораблей уходит в море. Послушай, Мариетт: был один умный царь — ой, какой умный! — и он приказал высечь море цепями. Ого!
— Я знаю, Дан. Ты говорил.
— Ого, цепями! Но он не догадался окрестить океан — зачем он не догадался, Мариетт? Ах, зачем он не догадался. Теперь нет таких царей.
— Что же тогда было бы, Дан?
— Ого!
Шепчет тихо:
— Уже окрещены все реки и ручьи и даже многих стоячих болот коснулся крест Господень, и только он остался — скверная соленая, глубокая лужа.
— Зачем ты его бранишь, он не любит этого, — упрекает Мариетт.
— Ого! Пусть не любит, я его не боюсь. Он думает, что он тоже орган и музыка Богу, это он — скверная, свистящая бешеная лужа! Соленый плевок Сатаны. Тьфу! Тьфу! Тьфу!
Идет к входным дверям церкви, сердито крякая, грозясь и словно торжествуя какую-то победу:
— Ого! Ого!
— Дан!
— Иди домой.
— Дан! Отчего ты не зажигаешь огня, когда играешь? Дан, я не люблю моего жениха. Ты слышишь, Дан?
Дан неохотно поворачивает голову.
— Я уже давно слышу это, Мариетт. Скажи отцу.
— Где моя мать, Дан?
— Ого! Опять ты бесишься, Мариетт? Ты слишком много смотришь на море — да. Вот я скажу, скажу отцу, да.
Скрывается в церкви, откуда вскоре доносятся звуки органа; слабые в первых протяжных, тяжело задумчивых аккордах, они быстро крепнут. И страстной тоскою своих человеческих напевов уже борются они с глухой и сумрачной тоской неутомимого прибоя. Как чайки в бурю рыскают звуки между высоких валов и выше подняться не могут на крыльях отягченных; держит их вечный и грозный океан в плену своих диких и извечных чар. Но поднялись они — и уже глуше шумит опустившийся океан; еще выше — и уже бессильно колышется внизу тяжелая, почти безгласная громада; звучат иные голоса в просторе светозарных далей. Одна тоска у дня, другая тоска у ночи — и вечным рабом вдруг кажется гордый, вечно мятущийся, черный океан.
Прижавшись щекою к холодному камню стены, слушает одинокая Мариетт и примиряется с чем — то, тоскуя все тише. Но вот звучат по дороге твердые и упорные шаги, скрежещет мелкий камень под крепкою стопою — и из-за церкви выходит он. Идет он медленно и строго, как те, кто не даром шатается по земле и знает оба ее конца: шляпу держит в руках, думает о чем-то, глядя перед собою. На широких плечах круглая, крепкая голова, с короткими волосами; темный профиль суров и повелительно-надменен; — и хотя одет человек в полувоенную одежду, но не подчиняет тело дисциплине одежды, а владеет ею как свободный. Складки ложатся покорно, не смеют иначе — согнет их, где надо, спокойно-сильное тело.
Приветствует его Мариетт:
— Добрый вечер.
Он, уже отошедший далеко, останавливается и медленно поворачивает голову. Выжидательно молчит, точно жалея расстаться с безмолвием.
— Это мне сказано: добрый вечер? — спрашивает наконец.
— Да, это вам. Добрый вечер.
Он молча смотрит.
— Ну, добрый вечер. Меня первый раз приветствуют в этой стране, и я удивился, услыхав твой голос. Подойди ближе. Отчего ты не спишь, когда все спят? Ты кто?
— Я дочь здешнего аббата.
Он засмеялся:
— Разве у попов бывают дети? Или в вашей стране особенные попы?
— Да, особенные.
— Теперь я вспоминаю: Хорре что-то рассказывал мне про здешнего попа.
— Кто этот Хорре?
— Мой матрос. Ну, тот, что покупает у вас джин…
Он снова несколько неожиданно засмеялся и продолжал:
— Да, он рассказывал что-то. Это твой отец проклял папу и назвал свою церковь свободной?
— Да.
— И сам сочиняет молитвы? И сам с рыбаками ходит в море? И своими руками наказывает тех, кто его не слушается?
— Да. Я его дочь. Меня зовут Мариетт. А как зовут вас?
— У меня много имен. Какое же тебе назвать?
— То, которым вас крестили.
— А почему ты думаешь, что меня крестили?
— Тогда то, которым называла вас мать.
— А почему ты думаешь, что у меня была мать? Я не знаю своей матери.
Мариетт говорит тихо:
— Я также не знаю своей матери.
Оба молчат и дружелюбно рассматривают друг друга.
— Так вот как! — говорит он. — Ты тоже не знаешь матери. Ну, что же! зови меня тогда Хаггарт.
— Хаггарт?
— Да. Тебе нравится имя? Я его сам придумал: Хаггарт. Жаль, что тебя уже назвали, я бы придумал тебе хорошенькое имя.
Вдруг он хмурится:
— Скажи, Мариетт, отчего ваша страна так печальна? Я хожу по вашим тропинкам и только камешки скрежещут под ногою. А по сторонам стоят большие камни.
— Это по дороге к замку, у нас туда никто не ходит. Правда, что эти камни останавливают прохожих вопросом: кто идет?
— Нет, они немые. Отчего твоя страна так печальна? Уже неделя, как я не вижу своей тени — это невозможно! — я не вижу своей тени.
— Нет, наша страна очень весела и радостна. Сейчас еще зима, а вот придет весна и с нею вернется солнце. Ты его увидишь, Хаггарт.