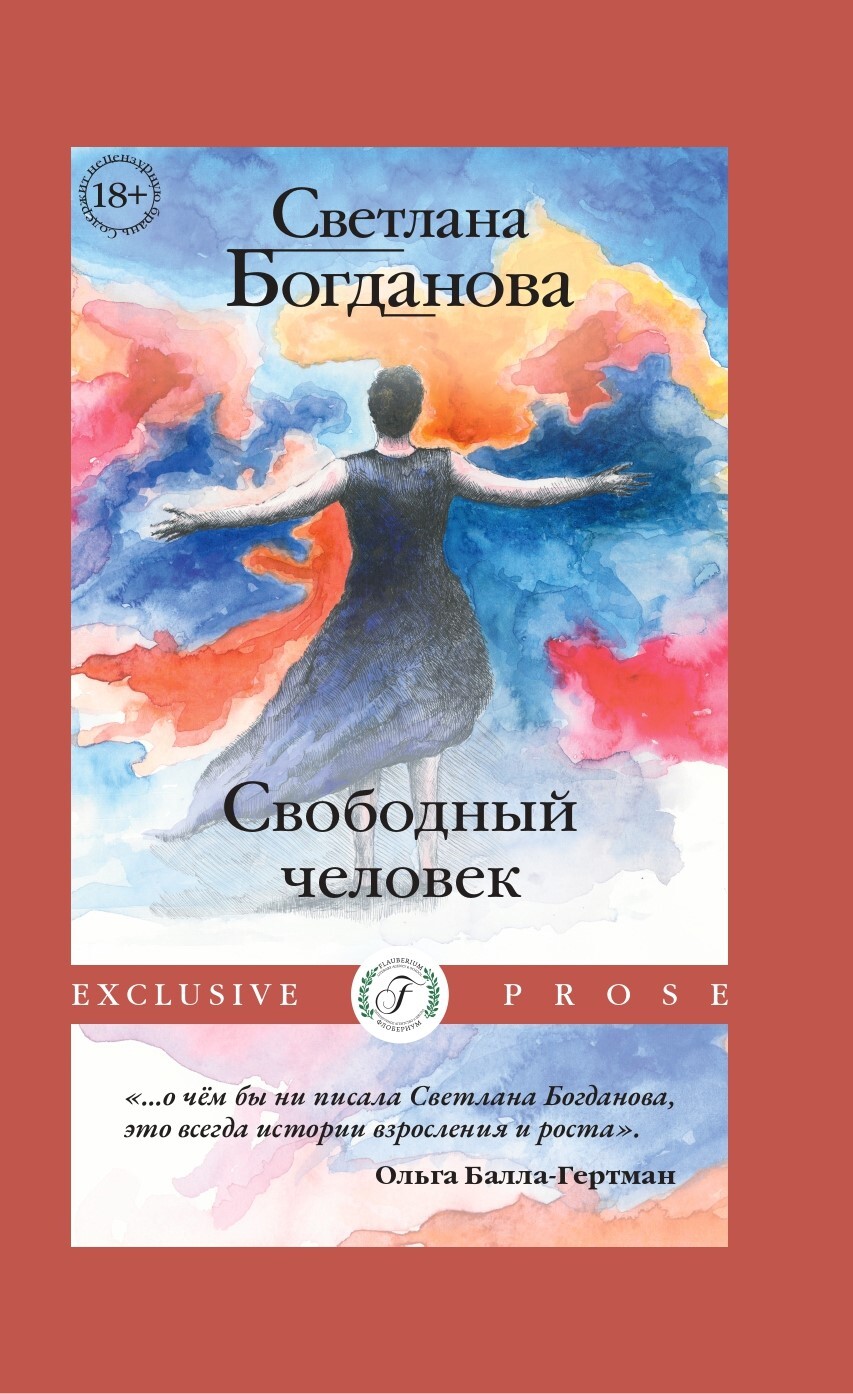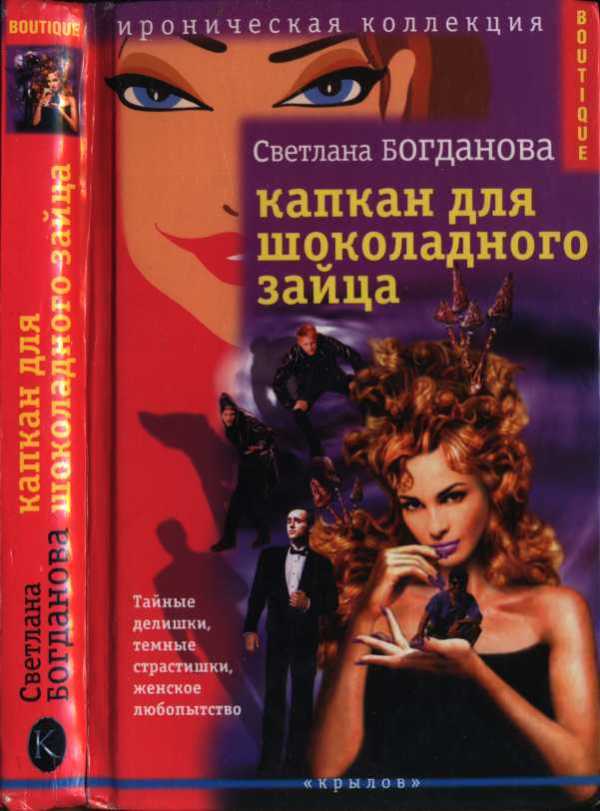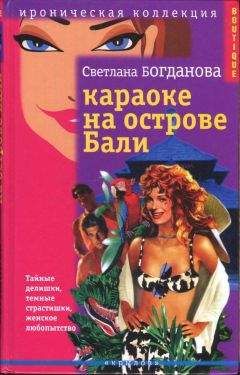причиной его здесь появления. Но он с настойчивостью сновидящего детектива постоянно повторял про себя этот вопрос, стараясь не очень увлекаться деталями и радостью присутствия в мире живых.
Первой была женщина лет пятидесяти. Коротко стриженная, ухоженная, в бархатном жакете и бархатных же кюлотах. От нее пьяняще пахло зеленью и землей, и Дмитрий Александрович поддался искушению уйти в далекие картины далекой весны, где на старой советской даче зажигались и гасли огоньки, где гортанные возгласы веселящихся людей заглушали бархатный шум яблонь, где праздник сливался с отчаянием нищеты и радостью узнавания.
Между тем женщина дотронулась до бокала, наполненного водой, и Дмитрий Александрович вернулся. Рядом с бокалом лежал блокнот на магнитном замке, на обложке блокнота – один из «Тридцати шести видов Фудзи» Хокусая, «Большая волна в Канагаве». Белые мохнатые лапы океана стараются сгрести в кучу и потопить пару рыбацких лодок, а на бежевом горизонте проступает заснеженная вершина Фудзи. «А вот в России я тот самый, что вот в Японии Катулл, а в Риме – чистым Хокусаем…» Всплыла знакомая строка, но что-то в ней не клеилось, распадалось, рифма была слишком оригинальна, а ритм поддерживали такие сбивчивые короткие слова – «вот», «тот», Дмитрию Александровичу казалось, что он пытается пролезть головой в горловину изрядно севшего свитера, знакомое дачное ощущение, и вот, почувствовав, как почти свалявшаяся резинка надавила на лоб, на глаза, на нос, проникла в рот и обожгла язык колючим кольцом, процарапала подбородок и, наконец, уселась на шее, – он вдруг как будто бы понял, что у свитера не хватает рукава. Куда делся рукав? «…Хокусаем… БЫЛ БЫ». Это «БЫЛ БЫ» оказалось утраченным рукавом, но теперь он чувствовал, что этот рукав завязан в узел, и рука никак не сможет найти здесь выхода.
Волна вздохнула, поднялась и окатила снова отвлекшегося Дмитрия Александровича сладковатой краской. Прочь отсюда, прочь.
Посмотрим лучше на другого человека. На того, кто вспомнил о Дмитрии Александровиче, разглядывая фотографа. Где он, кстати, где фотограф? Спрятался в углу, за стеллажом, устав снимать одну и ту же картинку. Странно, но теперь он совершенно утратил пластику спрута, как будто прекратил играть на публику и стал самим собой. Он просматривает фотографии, выдвигая челюсть и немного кося глазом, как порой делал и он, Дмитрий Александрович, и, должно быть, так когда-то делал и Борис Пастернак, за что и удостоился знаменитого цветаевского сравнения с арабом и его лошадью. Из спрутов – в кони!
А между тем – вот любитель музыки, классический директор департамента, пиджак спланировал на потертую кожу дивана, а сам меломан в белой рубашке в тонкую полоску примостился на подлокотнике в восхищенной и напряженной позе: он работает каждый день ради вот таких выходных. Сегодня он легок и весел, но завтра к вечеру он начнет тяжелеть, а потом, утром в понедельник выкатится из дома, медленно, черно, как чугунное ядро, воткнется за руль своей машины, включит купленный сегодня диск, и поедет в офис. И единственным значимым моментом всего его дня будет этот: машина мягко выезжает из двора, он прибавляет скорость, и город наполняется громкой, живой музыкой, похожей на лимфу, без которой ни одному организму, ни одному органу, – не жить.
«Когда Дмитрий Александрович, царствие ему небесное, был жив, – говорила на днях институтская подруга этого мужчины в белой полосатой рубашке, – он устраивал перформансы, и на один из них мы попали, сбежав с пары по истории КПСС, помнишь?»
Сосредоточиться на истории про перформанс у Дмитрия Александровича не получилось, но он понял, какая связь установилась в мыслях меломана, директора департамента. Он понял, что из-за каких-то давних перформансов фотограф показался ему похожим на Дмитрия Александровича. Периодически фотограф забывался, и тогда его лицо приобретало слегка безумное выражение, точь-в-точь как у Дмитрия Александровича, когда тот, бродя по сцене в лохмотьях и разбрызгивая краску, отдавался ритму, выстраиваемому перкуссионистом. Кстати, он, кажется, один из первых в Советском Союзе стал использовать эти слова – «перкуссионист», «перкуссия». А еще – «имидж».
Нет, пожалуй, мужчина в белой рубашке слишком мельком подумал про Дмитрия Александровича, едва вспомнил о нем и его перформансах… Нет, он не мог, не мог дать ему достаточно сил, чтобы войти в этот мир.
И, наконец, официантка. Джинсы, фирменная рубашка, фартук. Скорее всего, фартук нужен лишь затем, чтобы ее не перепутать с гостями. В другом пространстве – студентка факультета искусствоведения. Странное совпадение, но как раз на этой неделе они проходили московский концептуализм семидесятых и восьмидесятых годов, читали тексты, смотрели видео, обсуждали… Штампы? Говорили о том, что штампы, которых так боялись и так избегали некоторые авторы, для других стали настоящей питательной средой. На штампах строились буквально тома великой подпольной литературы… И взгляд Дмитрия Александровича, словно бы поскользнувшись, отлетел к стойке бара, за которой пробегавший мимо бухгалтер мягко и аккуратно поставил чернильный кружок печати на товарный чек. Официантка, кивнув, взяла поднос с кружками, наполненными до краев темным пивом, и двинулась между столиками, машинально шагая в такт господствовавшей здесь музыке, она старалась полностью сосредоточиться на гостях, но мельком все-таки взглянула на фотографа и поразилась его сходству с Дмитрием Александровичем. Ни одной строчки, ни одного слова она не могла вспомнить из этого автора. Если же там речь шла о штампах, то, должно быть, сначала надо вспомнить эти штампы. Народ и партия едины. Взвейтесь кострами, синие ночи. Нет, это все совершенно не то. Ах да, кока-кола, Ленин… Впрочем, кажется, это из какого-то другого автора. Ленин – самый человечный человек. Или Сталин? Или, может быть, Брежнев? Ведь это было брежневское время, Застой… Начинаем производственную гимнастику!
Дмитрий Александрович вздрогнул. Старенький радиоприемник цвета слоновьей кости призывал делать то ли приседания, то ли отжимания, то ли земные поклоны, утро было поздним и хмурым, и ему казалось, что весь мир от него отвернулся. Он один в этом мире бездельник, он один нарушил строй и, вместо того чтобы попасть в центр внимания, вместо того чтобы быть осужденным за свою инаковость, оказался проигнорирован и забыт. Делать ничего не хотелось. На кухне, где безраздельно властвовали бодрые аккорды производственной гимнастики, было так же пасмурно, как и снаружи, на улице. В раковине лежала гора вчерашней посуды. Ее стоило бы помыть, и так, глядишь, можно было бы дотянуть до вечера.
Дмитрий Александрович взял сигарету и сел за серый меламиновый стол. Подвинул к себе пепельницу. Закурил. А потом нагнулся, чтобы достать из-под стола привезенный друзьями из Америки альбом великого Хокусая, изданный в Японии в