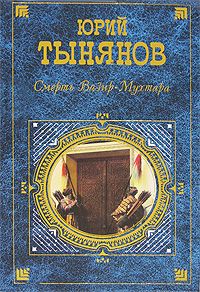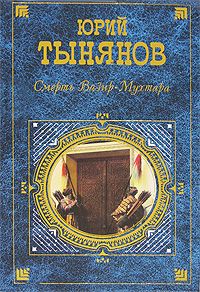И Мальцов дал феррашу пачку ассигнаций.
Содержали его хорошо. Ему приносили жирный плов, фрукты, конфеты, шербет. Он делал вид, что сыт до отвалу, — и в самом деле пишхедмет уносил пустые блюда. Как только закрывалась дверь за пишхедметом, принесшим обед, Мальцов пригоршнями брал плов и конфеты и, тихонько ступая, согнувшись, нес в темный угол. Там он складывал все под ковер; шербет же выливал в урыльник. Он голодал жестоко и все бегал в темный угол, все щупал руками жирные куски, но тотчас же прятал их, не прикоснувшись. Только два раза в день просил он ферраша принести ему воды похолоднее, никого не беспокоя, прямо из фонтана, ссылаясь на то, что привык к этой воде и она хорошо действует на его здоровье.
И на третий день утром в комнату к нему собрались все визири. С глубочайшим уважением, медленно кланялись они. Тут были старый дервиш, Алаяр-хан и другие. Толмач стоял, переводил. Другой толмач расположился скромно в углу, с чернилами и бумагой, и чинил перо. Мальцов, в халате, сидел. Он чувствовал боль под ложечкой, и его тошнило. Это была аудиенция, какой не бывало у Вазир-Мухтара.
— Аллах, Аллах, — сказал дервиш, — вот падишах уплатил восьмой курур, и что же? Воля Аллаха!
— Аллах, — сказал Алаяр-хан, и Мальцов впервые услышал его голос, — вот что сделали муллы и народ тегеранский, народ непокорный и дикий.
— Mon dieu, — сказал Абуль-Гассан-хан, — ah, mon dieu! Какой позор для всего Ирана! Что скажет император! Падишах, видит Бог, не хотел этого.
Они почти не смотрели на него, они сидели, покорные, тихие. Много их было.
Мальцов быстро подумал: вот оно!
Он вскочил с места, и все подняли на него головы, все смотрели и ждали.
Мальцов был бледен, в вдохновении.
Переводчик еле успевал переводить.
И чем далее он говорил, тем шире раскрывались глаза у сидящих, и глаза эти были удивленные.
— Нужно быть безумцем и преступником, — говорил Мальцов, все больше бледнея, — чтобы хоть на одно мгновение подумать, что его величество допустил бы это происшествие, если бы хоть минутою ранее знал о намерении черни. Увы, я происхожу из такой страны, которая довольно знает своевольство народное, и император русский, взошедший на престол при известных вам обстоятельствах, твердо надеюсь, поймет это. Я знаю, что дворец падишаха был в опасности. Я — единственный ныне русский свидетель того, как милостив был падишах к послу, какие беспримерные почести оказывал он ему. Но, — он перевел дух, остановился и горестно покачал головой… — Но — я буду говорить правду, — он вздохнул, — я знаю, кто виноват во всем, что случилось.
Алаяр-хан повел глазами. Мальцов и вида не подал.
— Виноват, к великому моему сожалению, — русский посол. Он, и только он.
Было тихо в комнате.
— Император в премудрости своей ошибся. Господин Грибоедов не оправдал доверия. Это я могу теперь говорить и буду говорить везде и всюду. Он презирал и ругался обычаям Ирана, священным обычаям его, он отнял двух жен у одного почтенного лица, он не остановился перед тем, чтобы отнять у самого падишаха, у его величества, слугу…
Он говорил, стиснув зубы, с выражением злобным. Он не притворялся. Он действительно ненавидел теперь Грибоедова. Эти штучки, это всеведение в очках, жесты небрежные! «Попрошу вас, Иван Сергеевич, исполнять то, что я предписываю!»
Вот он голодает второй день, вот его хотят убить. Поехал в Тегеран, даже не дав ему разинуть рта. Грибоедов существовал. Мальцов не видел его с кануна того дня, когда все началось. Он вовсе не был для Мальцова безголовым предметом, который теперь лежал в выгребной яме, в братской могиле с дохлыми собаками. Мальцов об этом не знал. Был Александр Сергеевич Грибоедов, который довел-таки до несчастья его, Мальцова.
— Я не буду таиться перед вами, — говорил Мальцов, — он заставлял меня насильно участвовать в черных делах своих, я принужден был защищать перед лицом духовного суда этого евнуха, но сам евнух… он говорил тайно Вазир-Мухтару, что ограбил казначейство. Я засвидетельствую перед лицом моего императора деяния его недостойного посла. Меня содержат здесь по-царски. Храбрый персиянский караул, спасший меня, защищал всех доблестно, и кто скажет, сколько этих храбрецов погибло? Войска были присланы, и кто может обвинить их в победе черни неистовой? Я уверен, что государь, которому я засвидетельствую почести, оказанные нам, вникнет в дело и сохранит дружбу с его величеством.
Молчали. Думали. Чуть слышно скрипел пером в углу тихий, невидимый толмач.
— Mon dieu, — сказал Абуль-Гассан-хан, — как счастливы мы, что здравомыслящий и благонамеренный человек сам был свидетелем печального происшествия и знает, кто истинно виноват. Но не откажетесь ли вы повторить то, что вы нам сказали, самому его величеству, который скорбит чрезмерно, чтоб снять с души его тяжесть?
Мальцов поклонился. Он вдруг ослабел, растаял.
Вечером принесли ему дымящийся плов. Первый раз за эти дни он поел. Он хватал крупные куски, почти не жуя, со сладострастием глотал, давился.
Ночью его затошнило, он испугался и всю ночь пролежал с открытыми глазами. Потом прошло. Просто он слишком долго голодал и объелся.
Вечером того дня был составлен фирман официальный шаха Аббасу-Мирзе в двух копиях: одна предназначалась для России.
Начинался фирман так: «Не знаем, как и описать превратности света. Аллах, Аллах, какие случаются происшествия». Дальше следовал текст придворного толмача (и Ивана Сергеевича Мальцова) относительно Вазир-Мухтара.
Еще дальше писал Фетх-Али-шах рукою Абуль-Гассан-хана и мыслью дервиша:
«Наш посланник был тоже когда-то убит в Индии. И мы не хотели верить, чтобы это было сделано народом, без потворства властей, но когда убедились в добром расположении английского правительства, то узнали, что это произошло не намеренно, а случайно».
И в самом конце: «Все убитые с должною почестью преданы земле. Мы утешаем первого секретаря, виновников же не замедлим наказать».
В неофициальной же записке спрашивалось у Аббаса: отпустить или убить? или и отпустить и убить? заключать ли немедля союз с Турцией? И приказывалось: слать эмиссаров в Грузию поднимать восстание.
Вазир-Мухтар лежал смирно. Имя Вазир-Мухтара ползло по дорогам, скакало на чапарских лошадях, подвигалось к Тебризу, плескало восстанием у границ Грузии.
Вазир-Мухтар существовал.
Уже дополз он, дотащился до Тифлиса, уже билась в истерике княгиня Саломе и плакала тяжелыми бабьими слезами Прасковья Николаевна:
— Моя вина, моя вина, Ниночка бедная…
Елиза поднесла надушенный платок к карим грибоедовским глазам и вспомнила, как в молодости Александр был дерзок, настойчив и чуть не добился всего и как гневался папенька Алексей Федорович и велел ему носа к ним не казать.
Она не плакала, но заскучала, затосковала и написала бешеное письмо Ивану Федоровичу: «Радуйтесь, Jean, вот плоды вашей политики — не нужно прощать этих денег персиянам, говорили вы, не нужно того и другого. И вот плоды — Александр Грибоедов убит».
И Паскевич, внезапно ощетинясь, ударил кулаком по столу, когда получил известия — и письмо Елизы — и крикнул, храпя и брызгаясь, Сакену, и полковнику Эспехо, и Абрамовичу:
— Взять пять батальонов, тыловых, вести в Персию. План турецкой кампании меняю. Корнет, зовите Карганова — в Грузии восстание. Взять батальон для усмирения. Пороть сволочей. Вздернуть по мулле в каждой деревне!
И только потом вспомнил, что это ведь Грибоедов, Александр Сергеевич убит, — как же так, и не воевал, штатский человек, а вот — убит.
— Англичане! — рявкнул он. — Позвать сотника Сухорукова! Аббасу написать, если не приедет сам, я пойду на Каджаров. И что шах англичанами подкуплен.
Уже горели деревни в округе Горийском и в округе Телавском и бунтовала Ганжа. И приняли на себя команду восстанием помещики князья Орбелиани, Тархановы, Челокаевы.
— Посол убит в Тегеране, Персия соединяется с Турцией, царевич Александр идет в Грузию!
Но был остров, которого не касался Вазир-Мухтар, который он обходил. Остров был в Тебризе, в доме Макдональда, в верхнем этаже, в комнате Нины.
Толстая Дареджана рассказывала ей по вечерам о том, как княгиня Саломе была молода — и князь, только увидав ее, в один вечер на ней женился. Она чесала Нине волосы, как в детстве, и мало говорила об Александре Сергеевиче. Письма становились реже. Может быть, он забыл о ней, может быть, дел было много. Леди Макдональд была с нею ровна, иногда разговоры ее были шаловливее, чем надо бы. Английские журналы были скучны. Местопребывание ее было по видимости в Тебризе, и настоящая жизнь в Тегеране. А писем не было.
Только однажды что-то замешалось в доме. Полковник не вышел к обеду, у леди были красные пятна на щеках, ей нездоровилось.
Потом полковник попросил ее спуститься к нему в кабинет. Нина взглянула в круглые, тусклые глаза Дареджаны и пошла.