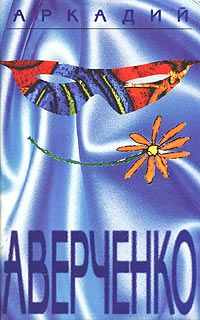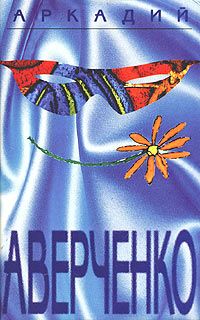— Юморист вы, — сказал одобрительно Коготь, — вечно у вашего брата заковыки.
— Какие заковыки? Есть случаи, когда полагается быть серьезным. Надеюсь, вы не отказываете от дуэли?
— Вы… в самом деле?
Коготь загрохотал, обрушился на диван, закашлялся от стремительного хохота и заболтал мясистыми ногами.
— Зарезал литератор! Уморил! Так Петька меня на дуэль вызвал? Го-го!
— В чем дело? — закричал Бондарев.
— Вот — голубчик: режьте меня, жгите — буквально-таки, ни капелюшечки не помню!! Где, когда, что? Правда, пили мы, как носороги. А скажите, милый… Мы… не дрались?
— Нет, — сухо сказал Бондарев. — В таком случае, прощайте.
Злой, поехал Бондарев к Перекусалову. Тот еще лежал в кровати.
— Скажи, — спросил сердито Бондарев, — ты помнишь, как вчера вызвал господина Когтя на дуэль?
— Неужто вызвал? — удивился Перекусалов. — За что, не помнишь?
— Это тебе лучше помнить! — закричал Бондарев. — Это ты заставил меня сегодня дурака валять, ездить к доктору, к твоему противнику, который тоже решительно отперся от всякой дуэли. Как это глупо, как пошло!
— Ты… доктора ездил приглашать? — дико посмотрел на литератора Перекусалов. Закрыл голову одеялом и захохотал стонущим, охающим смехом.
— О-ой, не могу! О-ой, смерть пришла!
Бондарев злобно ударил его по голове, выбежал на улицу и вскочил на извозчика.
— На вокзал! Или нет… Постой… Ты знаешь, где Стамякин живет? Вези к ним.
Стамякина не было дома. Красавица вышла к Бондареву, кокетливо кутаясь в розовый капот и щуря темные глаза.
— Кого я вижу! Какой вы милый, что заехали!
— Настя! — сказал страдальчески Бондарев, целуя ее руки. — Я только сегодня понял, среди какого ужаса, среди какой тины и пошлости ты живешь! Настя! уедем со мной…
Она высвободила свои руки, погрозила ему пальцем и мягко, как кошечка, опустилась на диван.
— Ответьте мне на один вопрос…
— Спрашивай все, что угодно. Милая!
— Сколько вы зарабатываете в год?
— Зачем тебе? Тысяч пять-шесть…
— Ну, будем благоразумны… Вы предлагаете мне уехать с вами. Вы, не спорю, мне нравитесь… Но что же будет!! Положение всеми уважаемой жены известного в городе человека я переменю на какое-то жалкое, двусмысленное положение — любовницы человека, который ведь может меня и разлюбить. И — что такое 6 тысяч? Мы здесь проживаем восемь, а в Петербурге — чтобы жить так, нужно двенадцать. Ну, милый… Ну, не сердитесь же! Будьте рассудительны…
— Настя! — закричал в ужасе Бондарев. — Грежу я, что ли? Где же вчерашнее?!
Она погрозила ему пальчиком.
— Вчерашнее? Не нужно было подливать мне так много вина за ужином.
V
Хотя Бондарев старался уехать из Плошкина незаметно, но провожать его собралась вся вчерашняя компания. В буфете пили вино. Общество оживилось.
— Милый Николай Алексеич, — сказал любовно инспектор Хромов, — по-моему, несправедливо, что министерство путей сообщения берет с таких людей, как вы, деньги за проезд. Таких людей нужно возить бесплатно, в купе первого класса.
— Эх! — простонал Перекусалов, опуская голову. — Он хоть и вторым классом поедет, но едет на красивую, интересную жизнь. Ах, братцы, если бы вы знали, как я тянусь к красоте!!
— Красота — это страшная сила! — подтвердил Коготь, выпивая залпом вино.
Красивая Стамякина нагнулась к Бондареву, чокнулась с ним рюмкой и шепнула:
— Скажите на прощанье что-нибудь такое, отчего мне было бы хорошо… Что скрасило бы мою глупую жизнь.
— Могу! — громко засмеялся Бондарев. — Господа! Пейте больше! Много пейте! Как можно больше…
То, что случилось со мной в первый день Пасхи, — навсегда поселило в моей душе убеждение, что есть такие странные необъяснимые явления в нашей жизни, которые не поддаются самому внимательному анализу и перед которыми мы стоим, как перед загадочной завесой, скрывающей за собой целый ряд удивительных чудес и тайн.
Мы стоим перед этой завесой, недоумевающие, с пальцем, положенным на полураскрытые уста, и с тоской спрашиваем:
— Что же?! Что это было?
И молчит завеса.
Был первый день Пасхи. 12 часов пополудни.
Я стоял перед зеркалом во фраке, свежевыбритый, в чудесном настроении, так как был я молод, стояла весна, и теплое солнце матерински ласкало всякого, кто подвертывался под его лучи.
Сначала поехал я к Болдыревым. Мать семейства и дочери приняли меня весело, радостно, все насквозь пронизанные весенним светом и радостью красивого праздника…
Просидел я у них даже больше положенного на визиты срока, что-то около получаса. Закусывали.
Когда я вышел от них, настроение у меня было прекрасное, а стоявший на углу извозчик в новом армяке, с примазанными маслом волосами, умилил и рассмешил меня своей праздничностью и своим видом человека, понимающего серьезность ниспосланного Богом праздника.
Мне пришло в голову невинно подшутить над ним, таким торжественным и строгим.
— Извозчик! — сказал я, подходя. — С Новым годом!
Он посмотрел на меня, пожал плечами и солидно ответил:
— Воистину Воскресе!
— Хорошая у тебя лошадь, — сказал я. — Какой породы? Лягавая?
— Работницкая.
— Бегать умеет?
— Побежит.
У него был такой солидный, приличный вид, что мне сделалось стыдно своих шуток. Я протянул ему руку и сказал:
— Прощай брат. Кланяйся там отцу, дедушке.
— Покорнейше благодарим. Дед вымер нынче.
Я сочувственно вздохнул и отошел.
Потом сидел у Крамалюхиных. Удивительная вещь — Пасха! Встретили меня как родного, тогда как в обычное время отношения наши не выходили за рамки простого холодного знакомства.
Жена Крамалюхина отказалась христосоваться…
— А я все-таки поцелую вас, — улыбаясь, сказал я.
— Да как же вы меня поцелуете, если я не хочу?
— А я все-таки поцелую.
— Не понимаю, право…
Я рассмеялся. Чудачка и не думала, что это так просто.
— Ей-Богу, поцелую!!
— Право… мне даже странно…
Она отвернулась, а я воспользовался этим моментом и поцеловал ее в шею.
— Ого! — сказал муж.
Я залился смехом.
— Ну? А говорили — не похристосуюсь. Вот и похристосовался!
— Однако, — сказал муж.
— Не правда ли? Хе-хе. Стоит только захотеть. Кстати, — вспомнил я. — Знаете вы анекдот о «стоит только захотеть»?
— Какой анекдот?
— Я вам расскажу…
Мне пришло в голову, что анекдот этот не совсем приличен и при даме рассказать его неудобно. Но эту мысль заменила другая:
— В сущности, ведь она замужняя и прекрасно все должна понимать…
И я сказал вслух:
— Анна Петровна! Разрешите рассказать этот смешной анекдот при вас. Правда, он немножко, как это говорится, того, — ну, да ведь и вы хе-хе — не девочка же. Я думаю, — прекрасно все понимаете, а?
Я, улыбаясь, заглядывал ей в лицо, а она встала и неожиданно куда-то вышла.
— Странная она какая-то сегодня, — удивился я.
— Это вы ее со своим анекдотом прогнали, — объяснил муж. — Нельзя же при дамах неприличные анекдоты рассказывать.
На меня от этих слов сразу повеяло такой непроходимой пошлостью узких мещанских узаконений и копеечной моралью людей, зарывшихся в свое грошовое мещанское благополучие, что я не выдержал и сказал:
— Почему? Ну, будем, дорогой Илья Ильич, откровенны хоть раз в жизни. Ведь не институтка же ваша жена? Представьте, если бы я был ее любовником — она бы выслушала от меня этот анекдот и только бы посмеялась. Я буду говорить, извините меня, просто: то, что мы с ней чужие, — это простой случай! Конечно, я не говорю…
Муж хотел что-то возразить, но в это время вошла жена.
— Ильюша! Тебя сейчас просят по важному делу к Дебальцевым. Нужно тебе сейчас ехать, а мне уже пора в театр на дневное представление.
— Простите, — сказал я. — Я не буду вас задерживать. Только какие же сегодня театры? В первый день театров не бывает.
— Бывает.
— Уверяю вас — не бывает. Я это хорошо знаю. Вас, наверное, обманули!
Она закусила губу:
— Ну, один театр все-таки открылся.
Прекрасно зная, что в первый день в театрах не играют, я был поражен до глубины души. Очевидно, Анна Петровна была жертвой чьей-то глупой шутки.
— Это надо выяснить, — сказал я. — Вы позволите мне поехать с вами? Нет ли здесь какой-нибудь глупой шутки или чего-нибудь еще похуже. Дело в том, что я могу поклясться, что в первый день ни в каких театрах не играют.
— Это театр в частном доме, — сказала она, задумчиво отворачиваясь.
— Ах, так?.. А что идет?
— Эта… Сирано-де-Бержерак.
— Прекрасно! Я давно хотел видеть эту пьеску (отчего бы мне не посмотреть ее? — подумал я). Слушайте, поедем вместе.