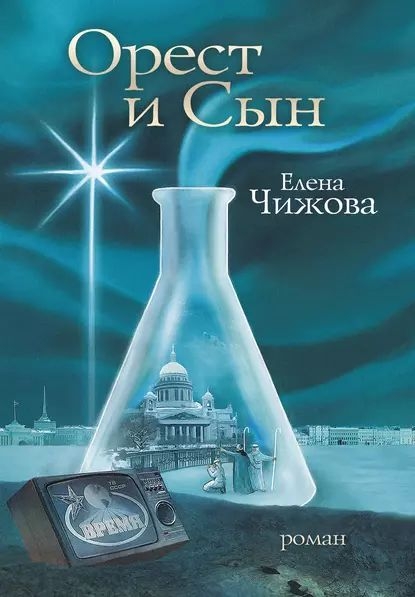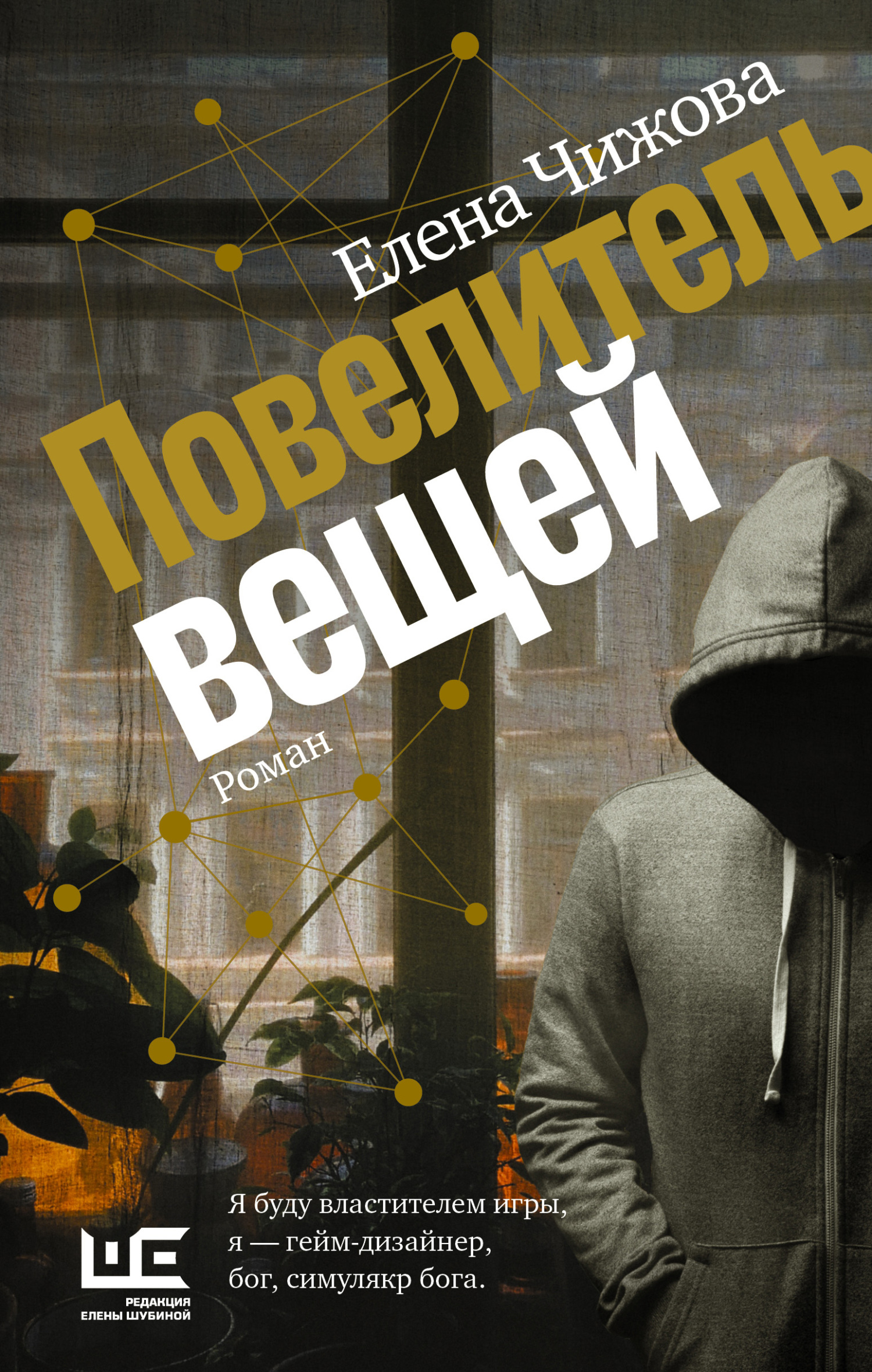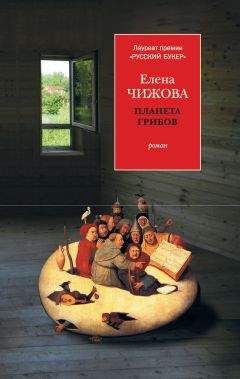что безумные рассуждения отца кажутся мне знакомыми.
Отец улыбнулся: «Значит, не воскреснешь», — с таким видом, будто ответил не взрослому сыну, а маленькому мальчику, и даже погрозил пальцем: «Твой старик большой путаник… Надо же: мифы, переходящие от цивилизации к цивилизации…»
«Полагаешь, мифы — пустое? Его теория не работает?»
«Почему же… — он пожевал губами, — работает. Еще как работает… Но если речь о гибели нашей цивилизации, всё это лишнее. Не стоит умножать сущностей, чтобы доказать такую очевиднейшую вещь…»
В тот вечер я долго не мог заснуть, слонялся по квартире, встречаясь глазами с портретами, и обдумывал слова отца. Мне представлялся город, опоясанный крепостными стенами. По дороге, мощеной лазоревыми плитами, шли земные купцы. Сквозь широкие внешние ворота они выходили на площадь и раскладывали товары. В обратный путь караваны пускались налегке. Шли мимо внутренней стены, за которую им нет доступа, и, поднося ладони к бровям, заглядывались на очертания башни, опоясанной дорожками строителей, из века в век совершающих свое терпеливое восхождение.
Я услышал цокот копыт и увидел ослика, бредущего по глиняным плитам, и в тот же миг, будто всё сошлось и соединилось, вспомнил две окружности — мой последний и тайный знак. Это они, две цивилизации — внутренняя и внешняя, только в отцовской интерпретации: мы все, родившиеся в СССР, входили в широкие ворота, но далеко не каждый обнаруживал маленькую дверцу во внутренней стене.
Я сидел, размышляя о старике, которого отец назвал путаником, а потом достал бумагу и написал первую фразу, еще не зная, что из этого получится: «Грузчики задвинули в угол шкаф и ушли навсегда…» Писал и думал: закончу — покажу отцу. Пусть прочтет мою интерпретацию. А вдруг она окажется правильной, и нам, персонажам этой истории, больше не придется возвращаться в начало игры.
Для работы я урывал каждую свободную минуту, но ничего не складывалось, будто черный ящик, неподконтрольный пользователю, включал блокировку. Так было, пока я не понял свою ошибку: черный ящик ни при чем. Я сам вогнал себя в рамки математической логики, пытаясь отделить истинное от ложного, явь от сна. Словно я не персонаж этой странной истории, а судья, оглядывающий ее сверху. Осознав это, я начал заново. Карабкался по трубе, сбивая пальцы, а они, другие персонажи, стояли, запрокинув головы — дожидаясь, когда я доберусь до конца.
Мне понадобилось несколько лет. В течение этого срока я снова и снова терзал свою память, сопоставляя разрозненные свидетельства, но окончательная картина сложилась в девяносто третьем, незадолго до смерти отца.
В те годы он пристрастился к газетам. По утрам я спускался в киоск, покупал и вырезал самое интересное: отец очень ослаб и не мог читать подряд. Вряд ли он осилил бы мои записки, и вообще, мне не хотелось его тревожить, погружая в прошлое. Я думал: пусть живет настоящим.
В последний раз мы виделись в октябре. В тот день я немного опоздал. Отец ждал меня. Сидел в вестибюле, сложив на коленях руки. Я извинился, сославшись на автобусы, которые ходят из рук вон плохо. Мы пошли в палату, я открыл портфель и вынул кекс — датский, из гуманитарной помощи. Нам выдали на работе. Думал, он обрадуется, но отец кивнул и положил на тумбочку, прямо на газетные вырезки. Сверху лежала статья одного известного экономиста. В ней говорилось о капиталистическом способе производства, о новых законах, регулирующих права собственности. Ссылаясь на изменения, произошедшие в нашем обществе, автор рассуждал о том, что советская цивилизация кончилась.
«Прочел? И как тебе?» — мне статья понравилась, но хотелось услышать его мнение. Прежде чем ответить, он подбил подушку. Я думал: собирается с мыслями. «Знаешь, я немножко прилягу, — лег, укрылся байковым одеялом и вдруг сказал, что не жалеет о своей жизни, в которой так и не сумел совершить великого открытия, а потом, шепотом, так, что я едва расслышал: «Способ производства ни при чем. Его можно изменить, но эта цивилизация никогда не кончится. Таких, как я, у них было много. Боюсь, это вещество открыли без меня».
Об отъезде я задумался после его смерти, но окончательное решение принял в девяносто шестом.
Подготовка заняла некоторое время: надо было продать квартиру и, главное, распорядиться книгами. Сперва я намеревался продать, во всяком случае, редкие экземпляры, оставшиеся от деда. А потом решил передать Библиотеке Академии наук. Раз уж стариковские книги исчезли, пусть останутся мои. Может, и пригодятся. Ведь если отец прав и советская цивилизация никогда не кончится, кто-то, чьих имен я никогда не узнаю, проникнет во внутренний круг. Чтобы провести свою жизнь вдали от их побед и свершений, которые сами по себе никогда ничего не доказывали, а значит, не докажут и впредь. В архив БАНа я передал всё, что осталось от нашего прошлого: бумаги, старые письма, рукопись моего деда и наш семейный альбом. Мне хотелось вложить в него Иннину фотографию, на которой она так похожа на мою мать, хотя мы — не близнецы. Но та фотография исчезла: сгорела вместе с моим дедом, в одном тазу.
С Ксенией я не виделся все эти годы. Не знаю, что на меня нашло, но мне захотелось попрощаться. Ведь кроме нее у меня никого не было.
В Пюхтицы я приехал без звонка, не знал, не имел понятия, можно ли туда звонить. Обратился к какой-то женщине, объяснил, попросил, чтобы ее вызвали.
Мне показалось, она не очень-то обрадовалась, но постаралась не подать виду. Мы сидели в монастырском дворе, и она рассказывала о своей жизни: после школы вышла замуж, родился сын. Первое время она за него боялась, в их семье мальчики всегда умирали, но, слава богу, сын оказался здоровым и сильным, а потом вырос и стал чужим. Про мужа она больше не упомянула, а я не стал спрашивать.