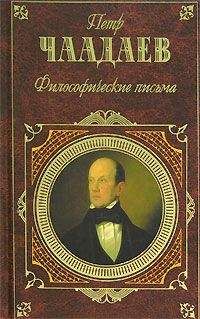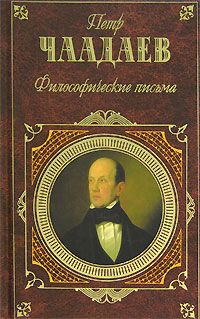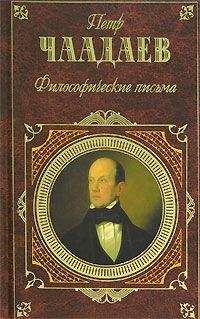Творчество Чаадаева высоко оценивал Чернышевский. «Петру Яковлевичу Чаадаеву в знак глубокого уважения»[402], – написал Герцен на экземпляре своей книги «Кто виноват?».
Биография Чаадаева на первый взгляд не примечательна. Он родился 27 мая 1794 года в дворянской семье. Его мать, Наталья Михайловна Щербатова, была дочерью известного историка и публициста XVIII века М.М. Щербатова. Рано лишившись родителей, Чаадаев воспитывался теткой Анной Михайловной Щербатовой, а затем дядей Дмитрием Михайловичем Щербатовым. Проучившись несколько лет в Московском университете, он вступил в гвардию и принял участие в борьбе с наполеоновским нашествием. Героический участник Отечественной войны 1812 года быстро продвигался по службе, но неожиданно отказался от блестящей военной и придворной карьеры. Сблизившись с декабристами, он и в их обществе не нашел удовлетворения своим духовным запросам. Во время поездки по Европе (1823—1826 гг.) Чаадаев испытал нравственный кризис, осмыслению которого после возвращения в Россию он посвятил несколько лет отшельнической жизни, сменившейся затем активным участием в жизни московских салонов. «Просвещенный ум», «художественное чувство», «благородное сердце», проявлявшиеся в беседах и по коренным проблемам бытия, и по животрепещущим вопросам социальной жизни, принесли ему известность и авторитет. Эти проблемы и вопросы зачастую обсуждались им и в письмах, которые в таких случаях теряли интимный характер, ходили по рукам, копировались и обсуждались в различных кружках. П.А. Вяземский называл Чаадаева «преподавателем с подвижной кафедры», которую он до самой смерти 14 апреля 1856 года переносил из салона в салон и которая служила основной формой распространения его мысли.
Известность Чаадаева своеобразно возросла в результате возбуждающего воздействия на русское общественно-литературное мнение его первого философического письма, опубликованного в 1836 году в журнале «Телескоп»."…Одним «философическим письмом», – замечал Плеханов, – он сделал для развития нашей мысли бесконечно больше, чем сделает целыми кубическими саженями своих сочинений иной трудолюбивый исследователь России «по данным земской статистики» или бойкий социолог фельетонной «школы»[403]. Эта публикация способствовала уточнению, углублению и размежеванию различных концепций исторического развития России, заставляла философов, писателей, художников ставить и исследовать принципиально важные, но систематически не разрабатывавшиеся проблемы. «Письмо Чаадаева… – писал Аполлон Григорьев, – было тою перчаткою, которая разом разъединила два дотоле если не соединенные, то и не разъединенные лагеря мыслящих и пишущих людей. В нем впервые неотвлеченно поднят был вопрос о значении нашей народности, самости, особенности, до тех пор мирно покоившийся, до тех пор никем не тронутый и не поднятый».[404]
Рассуждая на журнальных страницах о своеобразии судьбы России и ее роли в движении мировой истории, Чаадаев вынес суровый и безысходный приговор: "…тусклое и мрачное существование, лишенное силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании… Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя».[405]
Такой вывод единственной напечатанной при жизни Чаадаева крупной работы стал источником всевозможных искажающих его личность легенд, в которых он представал ненавистником России, перешедшим в католичество апологетом римской церкви, безусловным поклонником Запада. Но достаточно привести только одну цитату (а таких цитат можно найти в произведениях Чаадаева много), чтобы убедиться в односторонности подобных суждений. В «Апологии сумасшедшего», написанной Чаадаевым в 1837 году, читаем: "…у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великим трибуналом человеческого духа и человеческого общества».[406]
Как двигалась мысль философа и публициста от одной оценочной интонации к другой? В чем сущность отношения Чаадаева к родине?
Особенности его отношения к русскому прошлому, настоящему и будущему формировались под воздействием таких явлений национальной общественной жизни, как крепостничество и самодержавие времени Николая I. Это воздействие достаточно исследовано. Менее изучена подвижность всего комплекса идей мыслителя, взаимосвязь и развитие его религиозно-философских и социально-исторических представлений – от посылок до выводов. Пушкин, прочитав в рукописи отдельно от других два философических письма, сообщал Чаадаеву: «Мне кажется, что начало слишком связано с предшествовавшими беседами, с мыслями, ранее развитыми, очень ясными и несомненными для вас, но о которых читатель не осведомлен»[407]. Осведомленность читателя в особенностях творчества Чаадаева зависит не столько от знакомства с нашумевшим «телескопским» письмом и тем более с отзвуками на него, сколько от внимания к внутренней логике всех философических писем, а также других его произведений в их неразрывном единстве.
Со своей «подвижной кафедры» Чаадаев проповедовал идеи, связанные с таинственным смыслом исторического процесса в целом, с ролью отдельных стран, в частности России, в судьбах всего человечества. Он выражал на свой лад общую для эпохи тягу сознания к историзму, к философскому осознанию протекших и грядущих веков. Так, например, в начале 30-х годов Гоголь, по свидетельству В. В. Григорьева, был побежден мыслью, что он «создан историком и призван к преподаванию судеб человечества»[408]. Герцен же в начале 40-х годов замечал: «История поглотила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное пытание прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, – мы, как Янус, смотрим вперед».[409]
Пытая прошедшее, стремясь угадать пророчества былого, Чаадаев не находил ответов на волновавшие его вопросы в «обиходной», по его выражению, истории. Под обиходной историей он понимал эмпирический описательный подход к различным социальным явлениям, в котором нет нравственной ориентации и надлежащего смыслового исхода для человеческой деятельности. По его мнению, такая история, в которой со своей совершенно свободной волей действует «только человек и ничего более», видит в беспрестанно накапливаемых событиях и фактах лишь «беспричинное и бессмысленное движение», бесконечные повторения в «жалкой комедии мира».
Но подлинная, философски осмысленная история, по мысли Чаадаева, должна «признать в ходе вещей план, намерение и разум», должна постигнуть человека как нравственное существо, изначально многими нитями связанное с «абсолютным разумом», «верховной идеей», «богом», «а отнюдь не существо обособленное и личное, ограниченное в данном моменте, то есть насекомое-поденка, в один и тот же день появляющееся на свет и умирающее, связанное с совокупностью всего одним только законом рождения и тления. Да, надо обнаружить то, чем действительно жив человеческий род: надо показать всем таинственную действительность, которая в глубине духовной природы и которая пока еще усматривается при некотором особом озарении»[410]. Тайна назначения человека этим «особым озарением» обнаруживается не «в тревожных и неуверенных колебаниях человеческого разума, а в символах и глубоких образах, завещанных человечеству учениями, источник которых теряется в лоне бога».[411]
Здесь следует сказать несколько слов о религиозном аспекте чаадаевской мысли. Он называл себя христианским философом, что, по мнению советских исследователей, является точной самооценкой. «Верная оценка Чаадаева, – замечает М.М. Григорьян, – пожалуй, дана самим же Чаадаевым: он „христианский философ“»[412]. Такого же мнения придерживается и З.В. Смирнова: «Чаадаев действительно был „христианским философом“[413]. Игнорирование христианского начала ведет к существенному искажению своеобразия всего творчества Чаадаева, о чем напоминает Л. Филиппов: „До сих пор нет-нет да и встретится еще такое мнение: мировоззрение того или иного писателя, общественного деятеля, мыслителя, связанного в своем творчестве с религиозной традицией, содержательно до тех пор, пока оно не касается религии. Однако опыт исторической науки показывает (а изучение взглядов Чаадаева лишний раз подтверждает), что без исследования всего комплекса идей данного мыслителя, в том числе и религиозных, невозможен“[414] подлинно научный подход к явлениям культуры.