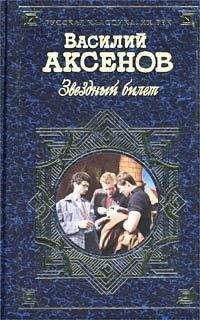— Зазнался или не узнаешь? — спросил он.
— Нет, я тебя сразу узнал, — пробормотал я. — Но видишь ли, Сергей, столько лет прошло, а мы…
У него лицо чуть покривилось — быть может, из-за упоминания о быстротечном времени.
— Помнишь «Темп»?
— Еще бы!
— Вот видишь, ничего из меня путного не вышло, хотя и прочили судьбу, — сказал он легко и не без юмора. — Но ведь и ты, старик, как будто не вышел в дамки, а? О тебе тоже ничего не слышно… Так что мог бы и узнавать современников.
Чудесно он это сказал — легко, беспечально и ненавязчиво.
— Да я-то как раз из-за противоположного комплекса к тебе не подошел, из-за скромности, — невольно улыбнулся я и повернулся к Екатерине, собираясь их познакомить.
— Из-за ложной скромности? — улыбнулся он, уже глядя на нее. — Мы поколение ложных скромников, — сказал ей Серго.
Они пожали друг другу руки.
— Давайте я с мальчишками нашими вас познакомлю, — предложил он.
Я подумал, что он хочет нас познакомить в основном для того, чтобы самому услышать мое имя, которое он забыл, а скорее всего, и не знал.
— Дуров, — громко сказал я. — Павел Дуров. Павел Аполлинарьевич.
«Мальчишки» дарили нас своими рукопожатиями, я бы еще не удивился, если бы меня только, но и Екатерину. Не особенно уверен, но, кажется, в этом есть что-то от современного психологического состояния — наши вьюноши как бы дарят себя восхищенному человечеству, в том числе и противоположному полу. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что это было только в первые минуты знакомства, а потом все больше и больше компания стала играть на Екатерину, все стало более естественным, и постепенно внутри нашего кружка образовалось то особое нервное, приподнятое настроение, что возникает в присутствии красивой женщины. Что-то постыдное чудится мне всегда в таком настроении и одновременно что-то чарующее; ясно, что в эти моменты жизнь натягивает свои струны. Я видел, что и Екатерина понимает постыдное очарование этих минут и, конечно, не может ими не наслаждаться: ночь, бульвар над морем, новое платье, дюжина мужчин вокруг и у каждого, конечно, сумасшедшие идеи по ее адресу. Пусть наслаждается, лишь бы понимала. Любопытно, как она хорошо понимает все, что и я понимаю! Кто она такая, эта Екатерина?
Вдруг что-то произошло, и настроение мигом было сорвано, как скатерть со стола рукой обормота. Я не понял, что случилось, но, проследив за взглядом Серго, увидел, что от толпы гуляющих отделился и идет прямо к нам высокий юноша с маленьким бледным лицом и в ярчайшей нейлоновой куртке, похожий на страуса юнец. В повисшей плетью руке он нес что-то маленькое, с которого капало, какой-то комочек. Юношу сбоку сопровождал обычный сочинский отдыхающий, узбек в костюме с орденами. Они шли быстро и прямо к нам. Мне стало не по себе — темный хаос, казалось, надвигался по стопам странной пары.
— Дзинь, — сказала грустно Екатерина, тут же угадав мое настроение. — Дзинь, дзинь, модус инферно.
Перед тем как они подошли вплотную, я успел еще заметить лица музыкантов. Все они были застывшими как бы на полуфразе, полуулыбке, полугримасе.
Подойдя вплотную, юноша протянул руку. В ней было нечто страшное: мокрая дохлая птичка с болтающейся головкой.
— Берите! — сказал юноша. — Берите! Что ж не берете?
Узбек оттягивал его за куртку, что-то бормотал, играл глазами — то подмигивал нам, то ему, то еще кому-то, то угрожал, то упрашивал, все глазами. В нашем кругу никто не двинулся, никто не брал трупик. Юноша разжал руку, и трупик птички шмякнулся на асфальт, как небольшая, но очень мокрая, а потому тяжеленькая тряпка. Затем оба они, узбек и юноша, Петр Сигал и Динмухамед Нуриевич, резко повернулись и пошли прочь, некоторое время еще мелькая в полосах света, но быстро растворяясь в ночи.
Матерный вздох прошел по кругу, и круг пришел в медленное движение, и с каждым градусом поворота от круга отлетала одна фигура за другой — кто уходил отмахиваясь, кто с плевком, кто без всяких эмоциональных движений. Не прошло и минуты, как над жалкой мокрой гадостью остались только трое: Серго, я и Екатерина.
Гулкий голос спросил из глубины ночи, как будто бы из-за невидимого горизонта:
— Помощь не нужна?
— Нет, спасибо, — ответила Екатерина и повернулась ко мне. — Вот вы еще ни разу не спросили, Дуров, какая у меня профессия, чем занимаюсь. А между тем я женщина, оживляющая подбитых птиц.
Она присела, взяла трупик в ладони и прижала его к груди, к своему исключительному платью. Почти мгновенно из ладоней ее выскочила, точно на пружине, живая славненькая, глуповатенькая головка нырка. Екатерина раскрыла ладони, и нырок встал на них, деликатно отряхиваясь и поклевывая себя под крыло. Екатерина подняла ладони, и нырок взлетел. Он набрал высоту по спирали, поднялся метров на двадцать и стал кружить над нами.
Не надо печалиться,
Вся жизнь впереди, —
пел нырок популярную в этом сезоне песенку.
— Неплохо поет, а? — спросил я Сергея не без гордости.
— Неплохо, — согласился тот. — Слегка железочкой отдает, чуть-чуть скрежещет, но в целом неплохо.
— Сейчас он в море полетит, — сказала Екатерина. — Он больше любит воду, чем воздух.
Она вытянулась струночкой, подняла руку и махнула. Нырок прекратил вращение и полетел с высоты откоса к морю. Летел и пел:
Не надо печалиться,
Вся жизнь впереди,
Вся жизнь впереди,
Только хвост позади.
Он летел, пел и постепенно растворялся в темноте.
Сцена. Номер третий: «Универсальный человек»
Ночной паркинг. Зрители — спящие рефрижераторы. Дуров развешивает на ближайших кустах жестянки и стекляшки: это воспоминания.
Всякий раз, как я встречал его на улочках нашего квартала, мне вспоминались университеты и не отвлеченные понятия высшего образования, но университетские территории, то, что сейчас называют кампусами.
Он был вообще-то переводчиком европейской поэзии, то есть поэтом, и сам себя, кажется, вовсе не связывал с университетами, с какими-то закрытыми учеными товариществами, а, напротив, быть может, полагал себя человеком улицы, бродягой, забубенным стихоплетом вроде Франсуа Вийона.
Я встречал его редко, но всякий раз, как мне сейчас представляется, где-то или в саду, или в аллее, всякий раз под какими-то огромными свисающими ветвями. Профессор (будем называть его так, хотя у него, кажется, не было ни единой ученой степени) с терьером на поводке, а сам похожий на ирландского сеттера, рыскал по кварталу в поисках созвучий. Мне казалось, что ему следует бежать всего того, что похоже на слова «гастроном», «комбинат», «протокол».
Однажды пришлось мне посетить городок Блумингтон, где в соответствии с названием процветает старый университет и колоссальные везде произрастают деревья. Ночью студенты бессонные шляются по пиццериям, в предгрозовой духоте проплывают они, как медузы, угри и тритоны. Там мы с дружком, хлопоча по части шамовки, передвигались в ночи. Там нам обоим вдруг вспомнился рыжий Профессор, вдруг одновременно в память пришел и связался с университетом. Вероятно, все же существовала в невидимом мире двусторонняя связь между Профессором и университетами.
Прошлой весной было отмечено, что деревья в квартале весьма произросли и поднялись над крышами. Той же весной стало известно, что Профессор убит бандитами. Шутки ли ради или по слепоте судьбы, но он попал в криминальную статистику, в разряд невинных жертв.
Злой умысел его догнал — так подвывали сквозняки на тех углах, где он когда-то резко заворачивал со своим терьером. Какая бессмыслица — так грустно шелестели посеребренные луной деревья в тех садах. Любой злой умысел бессмыслен — так печально полагала луна.
Не так ли? Бессмыслен удар железом по голове, но проломленная голова полна смысла. Нелеп выбор невинной жертвы, но сама невинная жертва полна смысла, лепости и благодати.
Кварталы наших домов, мигающих робкими огоньками, шумящие сады, полные тихих лепечущих душ, тротуары, на которых с каждым дождем проступают легкие следы Профессора, что рыскал здесь с терьером на поводке в подслеповатом розыске созвучий…
Дуров тихо аплодировал зрителям: чудесная публика. Приблизился, деликатно шипя пневмосистемами, еще один ценитель жанра — «КамАЗ» с двумя прицепами. Над паркингом стояла луна. Тень артиста пересекла масляные лужи…
Автостоп нашей милой мамани
Грубиян водитель Бирюков Валентин высадил Маманю сразу за порядками птицефабрики «Заря».
— Дальше, Маманя, топай пехом, — сказал он. — Начинай марафонский забег.
Вот такой этот Валентин Бирюков. Никогда не поздоровкается, не попрощамкается, а заместо искренних приветствий всегда грубость скажет.
Маманя развязала свой узел, достала кошелек и полезла за серебром.
— А я тебя, Валяня-голубчик, награжу, — пропела она. — Чичас дам тебе на пиво.