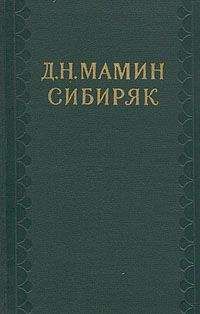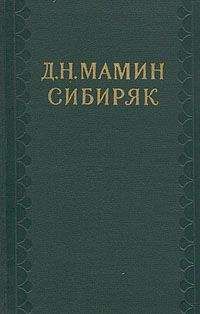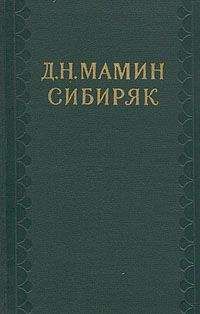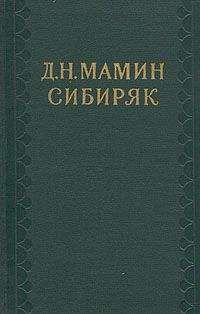— Ну, пошли в чужом рте зубы считать… Разве это хорошо? Если есть что — и слава богу, на две с половиной тысячи можно завести, а вот если бы Сергей Павлович без этих денег завел все это, тогда бы другое дело. Дай мне две-то тыщи, так и я всего накуплю.
Отец мало обращал внимания на докторские вещи, он даже как будто был недоволен ими и все говорил о двух тысячах жалованья, которые положительно не давали ему спать; мать, наоборот, совсем увлеклась одними вещами и ни о чем другом больше и говорить не могла. Бедная мать, она теряла свой здравый смысл под блеском докторского серебра, и мне положительно делалось ее жаль, особенно раз, когда Лапа в пылу увлечения совсем расхвасталась и начала подробно описывать те вещи, которые остались у брата в Петербурге и которых она не видела; совсем позабывшись, Лапа начинала рассказывать, как они поедут все в Петербург и как будут жить там.
— Нас тогда не забудьте, Олимпиада Павловна, — ядовито заметила мать, задетая за живое этим хвастовством. — Только я так думаю, что в Петербурге много людей, даст бог Сергей Павлыч женится на богатой невесте, пожалуй, и не уживетесь с богатой-то снохой.
Лапа только улыбалась, глубоко уверенная, что для них с матерью наступил теперь золотой век и что с этой позиции сбить их не в силах никакая богатая сноха; но ей вскоре пришлось жестоко раскаяться в своей излишней доверчивости. Луковна отлично знала жизнь и людей и не обманывала себя розовыми надеждами, по-прежнему оставаясь скромной и почтительной; доктор купил ей материи на несколько платьев и строго следил за ней, чтобы она не смела ходить в старых тряпках. Последнее обстоятельство и радовало и вместе смущало Луковну; ей до смерти хотелось спрятать все покупки в ящик на черный день, в который она продолжала верить по старой привычке; меня удивляла эта скромность Луковны, и я с детской откровенностью высказывал ей занимавшие меня мысли.
— Ой, голубчик, голубчик, мало еще ты на белом свете жил, — покачивая головой, говорила Луковна. — Сереженька сегодня здесь, а завтра нет его, я и осталась опять в своей избушке. Так-то, Кирша.
Мы были уверены, что Луковна по крайней мере сейчас же откажется от должности просвирни, а когда мой отец намекнул ей об этом, она обиделась и горько заплакала, так что отцу стоило больших трудов успокоить ее.
— Зачем я буду, отец Викентий, чужой хлеб есть, когда еще свои руки работают, — говорила Луковна, утирая глаза кончиком белого носового платка, который она была обязана теперь иметь постоянно при себе, чтобы не обходиться с своим носом посредством пальцев, как это она раньше делала.
— Вот умная старуха! — говорил отец после ухода Луковны. — Ее, брат, не проведешь… Свои, говорит, руки работают. Молодец!
Я исправно посещал Луковну и делал свои наблюдения, которые ставили меня в некоторое недоумение относительно доктора. Он даже смутил меня своим странным поведением. Утром он вставал часов в восемь, и боже сохрани, если что-нибудь будило его раньше времени: он вставал темнее ночи, бледный, с мутными глазами и придирался ко всему и ко всем; денщик Иван первый входил в комнату проснувшегося барина подать ему сапоги, умыться, чистое белье. Луковна стояла в это время в сенях и со страхом ожидала появления Ивана; если он шептал: «Благополучно!», — Луковна крестилась и переводила дух, а если Иван ничего не отвечал, значит, дело было плохо. Бедной Лапе доставалось больше всех в эти дурные дни, и доктор просто не давал ей проходу: не так вошла, не вовремя улыбнулась, говорит, когда не спрашивают, размахивает руками — словом, доктор находил в сестре тысячи недостатков, над которыми смеялся самым беспощадным образом, так что бедная Лапа через неделю совсем возненавидела своего брата и ворчала себе под нос:
— Уж скоро ли унесет от нас этого ворчуна… Подарил на платье да ботинки, так думает, и можно из меня жилы тянуть, как из каторжной. Да я лучше пойду полы мыть, чем слушать его… Все неладно! А где я возьму ладно, если меня не учили ничему!
— Лапа… Дура ты, дура набитая! — с укоризной останавливала Луковна дочь. — Разве так можно говорить про брата? Разве он худа желает, брат-от?
— Да что, мама, далась я вам такая несчастная, что всякой меня может день-деньской бранить… Ведь он, как пила, пилит меня! Ведь я не деревянная…
— А ты говоришь, дура, одни глупые слова; а того не подумаешь, что Сереженька болен… Краше в гроб кладут! Вон ему подашь кусочек какой, он обнюхивает его, попробует, сморщится и оставит: «Нет, маменька, я что-то не хочу сегодня есть»… Легко ему, моему голубчику? Ты вон зеленого луку как-то наелась да вошла в комнату, так он только ручками замахал и глазки закрыл…
— А я чем виновата? Не нравится — ударь меня, а не пили целый день… Ведь я тоже человек, а не бревно.
— Нет, ты бревно бесчувственное! — с азартом уверяла Луковна. — В тебе нет жалости, ты наелась — сыта, и трава не расти… Как есть не понимаешь ничего!
— Куда уж нам, деревенщине, с образованными людьми знаться… Я вон похудела как. Право, хоть в воду сейчас.
— А это знаешь? — внушительно говорила Луковна, показывая Лапе кулак. — Кто ты есть за человек? Грязь, пыль и больше ничего.
Как ни защищала Луковна сына и как ни была терпелива, но и она несколько раз всплакнула втихомолку, потому что ей иногда приходилось невтерпеж. Доктор был чистоплотен, как кошка, и одевался по целым часам; бедный Иван по десяти раз подавал ему одну и ту же вещь, уносил ее чистить и снова приносил, пока доктор не оставался ей доволен. Если пуговица была пришита некрепко, на сорочке сидело малейшее пятнышко, где-нибудь давило или жало, — доктор выходил из себя и впадал в состояние полного малодушия. Раз Лапа починила ему военный галстук из черного атласа, который доктор носил под жилетом; доктор с четверть часа примерял этот галстук перед зеркалом, а потом вошел в комнату, где жил Кинтильян и где мы теперь сидели, и без всякого звука, молча подал галстук Лапе, указывая рукой на какую-то черную ниточку, которая торчала из обрубленного края галстука. Я взглянул на доктора и даже испугался: его красивое, умное лицо было в эту минуту просто страшно, и на нем было написано такое внутреннее страдание, точно он приговорен был к смерти. Эта несчастная ниточка испортила доктору целый день, и он ходил из угла в угол все время темнее ночи, нервно покручивая усы и постоянно закладывая и вынимая из карманов свои белые руки. В другой раз на знаменитых бронзовых подсвечниках оказалось небольшое зеленое пятно от капнувшего стеарина, которое Иван не досмотрел и не уничтожил вовремя. Доктор молча указал рукой денщику на это пятно и опять посмотрел кругом таким убийственным мутным взглядом, от которого Иван, заложив руки за спину, даже попятился.
Я от слова до слова слышал любопытную сцену, которая происходила вслед за обнаружением пятна; доктор с полчаса ходил по комнате, а когда Иван поставил на прежнее место вычищенный подсвечник, он остановил его в дверях.
— Иван…
— Чего изволите, ваше благородие? — отозвался денщик, вытягиваясь в струнку у порога.
— Ты всем доволен, Иван?
— Очень доволен, ваше благородие!
— У тебя все есть, Иван?
— Все-с, ваше благородие!
— Может быть, у тебя денег недостает, Иван?
— Деньги есть, ваше благородие-с!
Доктор молча ходил по комнате; потом, остановившись, заговорил глухим, совсем упавшим голосом:
— Если ты доволен, Иван, зачем же ты сделал меня больным на целый день?
— Слушаю-с, ваше благородие…
— Дурак!.. Ведь ты знаешь, что я не выношу беспорядка в моих вещах… Да? Знаешь? Я люблю, чтобы у меня всякая вещь на своем месте лежала… Все было чисто, опрятно, прибрано, а тебе лень вычистить подсвечник.
— Я, ваше благ…
— Молчи, болван! И еще оправдывается, каналья?!. — в каком-то отчаянии, заломив свои белые руки, заговорил доктор. — Виноват кругом, каналья, и оправдывается!
— Виноват, ваше благородие!
— Ты не понимаешь, как все это действует на меня: я не выношу беспорядок… Я для тебя все готов сделать, а ты… Третьего дня прихожу, — пепельница передвинута, чернильница открыта… Ты, Иван, кажется решился уморить меня.
— Слуш…
— Убирайся вон, дурак!..
После таких сцен доктор приходил в комнату Луковны, садился на стул и начинал ей жаловаться с какой-то детской наивностью:
— Вот, маменька, какие люди бывают!.. Да, маменька.
— Зачем же вы, Сереженька, так огорчаете себя, — утешала Луковна: — Позвольте я буду убирать вашу комнату, может быть, я сумею лучше сделать…
— Ах, маменька, маменька… Где же вам?!. Вы не знаете, а Иван все знает: он не хочет, маменька. Он назло все делает мне, маменька…
В Таракановке, как в самом глухом медвежьем углу, не было места тайнам; поэтому скоро по всему заводу стали говорить о странностях доктора самые невероятные рассказы и даже делали предположения, что он немного «тово», «тронулся умом». До Луковны, конечно, доходили эти слухи через десятые руки, но она отмалчивалась и только покачивала головой; ее беспокоило больше всего то обстоятельство, что ее Сереженька никогда не молится; раз она решилась заговорить с сыном об этом щекотливом обстоятельстве.