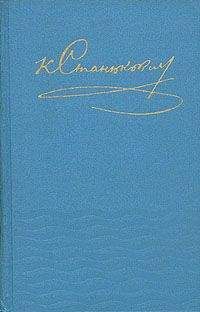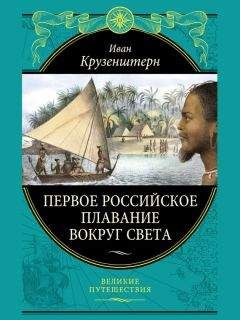— Не заметил? — усмехнулся боцман… — А вот он и сам бежит сюда! — понизив голос, проговорил боцман…
Действительно, высокий и худощавый лейтенант с рыжими бачками и усами торопливо несся на бак.
Боцман отошел от часовых. Те повернули головы к океану.
Егоркин снова взглянул на Щупленького.
Тот сидел ни жив ни мертв. И только губы его вздрагивали.
Великая жалость охватила сердце Егоркина при виде этого тщедушного, мертвенно-бледного молодого матросика, который и прост, и добер, и так хватает за душу, когда играет на гармонике.
И он чуть слышно сказал ему резким повелительным тоном:
— Злющий запросит — ты молчи!.. А не то искровяню. Понял? — угрожающе прибавил он.
Ничего не понявший и изумленный этим угрожающим тоном матросик испуганно ответил:
— Понял…
В эту минуту сзади над головами часовых раздались ругательства, и вслед за тем лейтенант спросил своим слегка гнусавым высоким голосом:
— Кто из вас двух, подлецов, позже крикнул?
— Я, ваше благородие! — отвечал, поворачивая голову, Егоркин.
Щупленький только ахнул.
— Ты, пьяница? Ты, старая каналья, спал на часах?
— Точно так. Задремал, ваше благородие.
— Эй, боцман! Дать ему завтра пятьдесят линьков, чтобы он вперед не дремал!..
И лейтенант торопливо ушел с бака и поднялся на мостик.
— Левонтий!.. Это как же… За что? — дрогнувшим голосом начал было Щупленький.
Взволнованный и умиленный, он продолжать не мог, чувствуя, что слезы подступают к горлу…
— Сказано: молчи да гляди вперед! — ласково ответил Егоркин.
И после паузы прибавил:
— Мне пятьдесят линьков наплевать. Я и по двести принимал. А ты?.. Ты ведь у нас Щупленький… Тебя пожалеть надо!.. А должно, пароход идет!.. — круто оборвал он речь.
Действительно, скоро в полусвете лунной ночи вырисовался силуэт большого океанского парохода с тремя мачтами.
Через четверть часа он уже попыхивал дымком из своей горластой трубы, приближаясь навстречу, окруженный серебристым поясом сверкнувшей воды.
Оба часовые глядели на проходивший пароход молчаливые.
Щупленький утирал слезы. Лицо Егоркина, обыкновенно суровое, светилось какою-то проникновенной задумчивостью.
А месяц и звезды, казалось, еще ласковее смотрели с высоты бархатистого темного купола.
И старик океан, казалось, еще нежнее рокотал в эту чудную тропическую ночь, бывшую свидетельницей великой любви матросского сердца.
Рассказ старого матроса I
Небось в те поры бога-то мы вспомнили, вашескобродие! Еще как вспомнили-то! Уж на что старший офицер был у нас отчаянный: никакого страха не имел и только, бывало, ругался да нам зубы полировал, — в старину, сами изволите знать, полировка была форменная! — а и он на тот раз вдруг в понятие вошел. «Братцы, мол, голубчики любезные!» Совсем по-другому заговорил: понял, значит, что смерть не то, что безответного матроса по зубам съездить: она сама в лучшем виде тебя съездит, сколько ты форцу на себя ни напускай. И все мы вовсе были обезнадежены тогда; прямо сказать, в отчаянность пришли; так и полагали, что всем нам будет крышка в этом самом Немецком море. Довольно даже подлое это море, вашескобродие! Завсегда, сказывают, на нем погода. Волна какая-то шальная, безо всякой правильности бросается и мотает судно во все стороны. Оттого и качка там самая что ни на есть нудная. Крепкого человека — и того обескуражит. И видал я, по своему матросскому званию, всякие моря и окияны, а хуже этого моря нет морей… Однако господь внял матросским молитвам — матросская-то молитва шибчее до бога доходит! — и вызволил. Многие которые и живы остались… Ну, да и командир-то наш, Левонтий Федорыч Белобородов — может, изволили слышать, вашескобродие? — башковатый и добрый человек был… Показал тогда себя… Не стерпел гибели «Ястреба», царство ему небесное!
И Иваныч, с которым мы жарким летним днем сидели в тенистом прохладном саду в имении моего приятеля, бывшего моряка, где старый матрос был ночным сторожем, обнажил белую как лунь голову и истово осенил себя крестным знамением.
— А случилась гибель нашему «Ястребу» в проливе, вашескобродие! — продолжал Иваныч. — Мелистый пролив… много этих самых мелей да каменьев. И берега обманные, низкие. Запамятовал, как проливу название… Память-то старая, вашескобродие! Вроде быдто Рака прозывается…
— Скагерак, — подсказал я.
— Он самый и есть… Шли мы это по нем глубокой осенью под зарифленными парусами, а день был пасмурный… солнышка и звания не было… и погода свежая… а к вечеру и последний риф взяли для безопасности, потому как ветер во всю силу входить начал и волны вовсе освирепели, ровно сбесились… Воют воем и на «Ястреб» набрасываются. Однако конверт-то наш крепкий был, летом только что выстроен и отправлен был из Кронштадта в дальнюю на три года, — поскрипывает себе, мотаясь, как угорелый, на волнах. И ничего они с ним поделать не могут, как ни стараются. Только брызгами нас обдают… Ну и то сказать — рулевые были исправные, не зевали… Знали, что за зевки не похвалят… Хорошо. Просвистали это брать койки… Пошли, значит, мы, подвахтенные, вниз, подвесили койки и рады были после трудного дня заснуть до полуночи. Ну, известно, уставший человек лег — и готов. Долго ли спал, обсказать не могу, вашескобродие, но только вдруг меня подбросило, и я чуть не вылетел из койки. Слышу страшный треск. «Ястреб» задрожал и остановился. И тую же минуту все повскакали с коек. А уж боцман сверху кричит в люк не своим голосом: «Пошел все наверх!» А мы и без того торопимся одеться и наверх бежать — потому все в страхе. Поняли, что на мель встали. Выскочил это я, как полоумный, наверх, к своему месту, — я марсовым служил, — гляжу — одна страсть! Ночь темная, кругом море гудит, а ветер так и ревет в снастях. А командир сам уж в рупор командует: «Марсовые, к вантам! Паруса крепить!» И голос у его успокоительный, ровно бы никакой беды и нет… Очень много было твердости в Левонтье Федорыче, вашескобродие. И дока по флотской части был, и добер был к матросу. Зря не забижал, и если наказывал, то с рассудком… А было много и таких, что без всякого рассудка нашего брата в тоску вгоняли… Было, вашескобродие! — раздумчиво прибавил старик.
Он примолк, вздохнул, словно бы сожалея о тех людях, которые вгоняют в тоску, и продолжал:
— Полезли мы, марсовые, наверх… Разошлись по реям и изо всех сил стараемся, чтобы скорей закрепить свой парус… Спустились вниз… А уж из орудия палят… Сигнал о бедствии, значит, даем. И матросики уже на всех помпах стоят, воду откачивают из трюмов… А она все больше да больше прибывает… А «Ястреб» наш так и бьется, так и бьется о каменья… Жутко было, вашескобродие! Однако все еще надежда есть, что откачаем воду и до утра продержимся, а там, может, и берег близко, как-нибудь спасемся… Ну, и налегаем на помпы… И холоду не чувствуем. И капитан подбадривает: «Не робей, говорит, молодцы!» Так надеялись мы до утра вашескобродие, а как рассвело, то поняли, что нам крышка. Вода уж под верхнюю палубу подошла, и через корму ходят волны… А буря не унимается, и кругом ничего не видно… Одни волны бунтуют, кружатся, и в них — смерть. А из орудий еще палят. Последние заряды расстреливают, потому вниз, под палубу, уже нет ходу. А капитан, и вахтенный, и штурман — все стоят на мостике. Левонтий Федорыч бледный как смерть и за эту ночь совсем постарел… Смотрит с тоской. И все мы с тоской смотрим. Бросили помпы и стали было готовить на случай к спуску гребные суда и вязать плот… Куда тебе!.. Вода хлынула из люков и стала заливать переднюю палубу… Волны захлестывали… Все люди столпились на носу, потому как «Ястреб» передней частью на камнях сидел, то и выше он был, а как стало покрывать водой и верхнюю палубу, полезли все на ванты, держимся друг около дружки, и кои и на марсы забрались, чтобы смерть не достала. А она тут как тут, из воды смотрит… В отчаянности ждем мы, что вот-вот «Ястреб» сломается и мы потопнем… И батюшка нам отходную стал читать: к смерти, значит, готовить… Но не успел он окончить, как его смыло волной, и он скрылся в море… И многих, кои не успевали забраться на ванты, смывало, и они на наших глазах погибали. Жутко было смотреть, и всякий думал, что и ему недолго ждать. И кои молились, кои плакали, кои от страха сидели ровно ополоумевшие, с выпученными глазами. Два матросика с отчаянности сами в воду бросились, чтобы не томиться зря… Великое мучение послал тогда господь… Давно это было, а как вспомнишь, и то вовсе жутко… Иной раз приснится, как это мы бедовали, так в холодном поту проснешься. Несколько человек хоть и живы остались, а рассудка навсегда решились. И каких только страстей не пришлось тогда увидать, вашескобродие!.. Опасная эта флотская служба… Нет такой другой. На сухой пути ты, по крайности, можешь распорядиться собой, а ежели кругом вода?.. То ли дело на земле!.. И тебе травка, и тебе лес, и тебе поле, и тебе цветики… Небось, хорошо! Вот мы с вами тут сидим, вашескобродие, и чувствуем землю-матушку. Дух-то какой от цветов идет… И птаха-то как заливается, бога хвалит… И комар жужжит… И вон он муравей-то, работяга, соломинку несет… Одно слово — благодать! — говорил Иваныч.