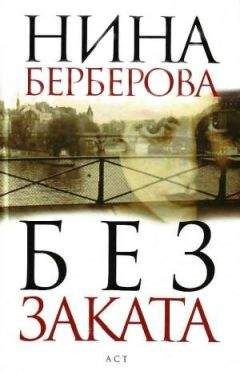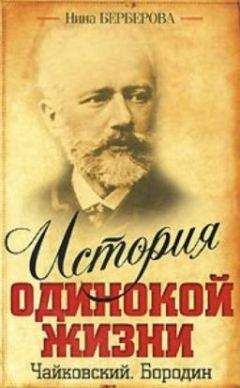Полина в разоренной розовой комнате, где на обоях жалко и грустно выглядели следы снятых фотографий, где ничего не осталось от нарядной кружевной Полининой постели, выдвигала ящички туалетного стола и то вытирала слезы, то пудрясь, дарила Вере полупустые флаконы и баночки неизвестного назначения:
— И духи, — говорила она нараспев и печально. — Дай руку. Правда, хорошо?
Вера нюхала руку, от которой шел неразборчивый запах какой-то смеси.
— И крем, — и она подставляла под Верин нос фарфоровую коробочку.
Но у Веры ничего не болело и она решительно не знала, что будет делать с кремом.
— И пудра, — и Полина вдруг обмахнула Верин нос большой лебяжьей пуховкой.
Вера схватила Полину за руку и прижала ее тонкие, пыльные пальцы к горячей своей щеке.
Они уезжали. Полины, с которой она когда-то не сводила глаз от восхищения, здесь больше не будет и не будет никакого «здесь», потому что взорвана жизнь.
— Пора тебе пудриться. Пора тебе начать носить корсет, — говорила Полина, — и прическу. Ах, когда мы опять увидимся, ты будешь совсем большая.
— Не надо, Полина.
— У меня в твои годы была уже талия, а у тебя ножищи, как у унтера.
Вера отпустила Полинину руку и села в пыльное атласное кресло.
— Мне все равно, — сказала она рассеянно. — Я хочу, чтобы здесь опять повесили шторы, расставили твои безделушки. Пошутили и будет.
Она оперлась локтями о колени и опустила лицо в руки.
— Здесь скоро нечего будет есть, — сказала Полина голосом своей матери.
В коридоре, в соседних комнатах, ходили люди, увязывали последнее, осматривали шкафы и буфеты, перекликались о ключах, билетах, извозчиках. Становилось сумеречно. В окне собирался дождь.
Раньше здесь, от всех сорванных теперь занавесей, портретов, подушек, не было дела до погоды, до света: с полудня, зимой, зажигалась низкая лампа под лиловым бисерным абажуром, летом бывал полумрак. Как часто сидели здесь гости — Полинины гости — молодые люди и подруги, не замечавшие Веру и дразнившие Сама будущим Крейслером. И когда Вера случайно попадала сюда, между столиками, уставленными вином и цветами, она сама себе казалась слоненком.
Она засматривала сюда из соседней маленькой гостиной, где сейчас вся бледно-зеленая мебель была сдвинута в угол, чтобы дать место извлеченным из недр адлеровской квартиры, позабытым, когда-то огромным проволочным блюдам — старым шляпам. Здесь в высохшем Самином террариуме, где когда-то жили черепахи, были сложены подлежащие уничтожению давние Самины игрушки, легкая косая картонка с елочными украшениями и даже — откуда и как уцелевшая? — заводная кукла Полины в платье девяностых годов, поднявшая растопыренные ручки к щекастому лицу.
В столовой, на отодвинутом столе, стояли остатки еды, окно во двор было открыто, кусок масла в бумажке качался, подвязанный к форточке; сундуки и корзины, нагроможденные посреди комнаты, мешали всем, кто проходил и каждый, чтобы не споткнуться о какой-то ящик, цеплялся теменем о чугунную люстру, которую выше поднять было невозможно.
В кабинете Борис Исаевич стоял у окна в пальто и смотрел во двор. Он только что самолично отвинтил с парадной двери медную доску со своей фамилией; Вера в ладонь собрала винты. Оба при этом молчали.
Кухарка — все, что осталось от адлеровской челяди — и плечистый дезертир, кухаркин кум и возлюбленный, уминали в буфетной громадный тюк с подушками. Вера вошла в классную, классной тоже не существовало больше, письменный стол, книги, все было куда-то вынесено, старый зеленый диван остался один — тот самый.
Вера взяла с подоконника карандаш, встала на стул у двери и под потолком, на шероховатых синих обоях написала: «В этой комнате Сам и Вера дружили! 1912–1918. Петербургское детство. Прощайте все…»
— Ну прощай, Верка, надо на вокзал, — сказал Сам, входя.
Он, однако, сел рядом с ней и минуту они молчали оба.
— Хорошо все-таки было здесь, — сказал Сам, взглядывая на нее. — Помнишь, как было иногда хорошо?
— Да, Сам.
— Может быть, никогда уже так хорошо не будет?
— Ну что ты! Этого не может быть.
— А вдруг. Ты только подумай: вдруг никогда, никогда не будет в жизни так чудесно.
— Не будет так, будет иначе. Он взял ее за руку.
— Не забудешь? — сказал он вдруг тихо.
— Нет, Сам.
— А через десять лет?
— И через десять.
— А через сто?
Она обняла его за шею и долго смотрела ему в лицо. Как он бледен, как худ и как близок к дороге!
— И через сто.
Он погладил ее пальцы.
— А вдруг никогда не увидимся, тогда что?
— Молчи, Сам, этого не может быть.
— Все может быть, Верка.
Он поднял ее руку и провел по своему лицу.
— Прощай, Верка, прощай, прощай… Нет, ничего не может быть безоблачнее, лучше того, что было.
— Не говори так.
— Ты пойми, что ведь у нас с тобой было совершенно замечательное.
Она почувствовала, что сейчас расплачется. Он прижался щекой к ее щеке.
— Ты пойми: все кончено. Ты пойми: никогда не повторится то, что было. Ты пойми, Верка: начинается жизнь.
— Да, да.
Он обнял ее голову и стал целовать ее слезы.
— И что будет с нами — неизвестно. Надо ехать… Не плачь, пожалуйста. Я хотел бы всю жизнь быть вместе с тобой.
— И я тоже, всю жизнь, Сам.
— И никого не надо больше, правда?
— Конечно, никого.
— Никого во всем мире. Ах, Верка, моя золотая рыбка! Прощай, Верка.
Она плакала, прижимаясь к нему, сжимая его руку обеими руками.
— Хорошо, что все это было, — говорил он. — Есть что увезти с собой, кроме канделябров и посуды. И ты теперь знаешь, и я знаю, что такое дружба.
— Да, Сам.
— И мы никому об этом не скажем. Пусть люди думают, что это невозможно, да?
— Да.
— А мы будем смеяться над ними и через десять лет, и через сто. И будем радоваться.
— Что было такое!
— Что было такое… Верка, — он вдруг изо всей силы обнял ее. Искры посыпались у нее из глаз от боли, и она почувствовала, что он плачет тоже.
— Сам! — крикнула Полина. — Пора.
— Ты плачешь, Сам?
— Нет, я не плачу.
— Нет, ты плачешь. Вот мы вместе плакали. Она отодвинулась от него.
— Может быть, ты мне дашь кусок косы? — спросил он.
— Это сентиментально.
— Знаешь что, перекрести меня. Она покраснела.
— Я ведь, ты знаешь, не очень-то верю… иногда, — сказала она неловко, но перекрестила его у переносицы. — Храни тебя Бог, помоги тебе Бог. Господи, если ты есть, сделай так, чтобы мы увиделись.
И она опять кинулась к нему.
— Сам, где же ты? — позвали издалека.
Вера встала.
— Так помни, что ты сказала: и через десять, и через сто…
— Да, да.
— И если я приду к тебе черт знает какой, безногий, паршивый…
— Ты будешь знаменитым музыкантом.
— …нищий, безносый…
— Какой ты дурак!
— Клянешься?
— Клянусь. А если я?
— Ты… подожди, не убегай. Ты, Верка, будь осторожна, будь… как бы это сказать… Боже мой, лучше было бы тебя взять с собою.
Она положила ему руки на плечи, он взял ее за локти.
— Прощай, — сказал Сам и поцеловал ее. — Почему я тебя раньше не целовал? Любишь меня?
— Да.
— А, как мне было хорошо с тобой!
Она вытащила его в переднюю. Дверь на лестницу была широко открыта: выносили вещи. Внизу стояли три извозчика с поднятыми верхами: дождь хлестал по лошадиным крупам, по клеенке колясок. Куда кто сел, Вера не видела, ее трясло, как в лихорадке, мигом намокло платье. И вот завертелись первые колеса.
— Жизнь моя, прощай. Помни меня! — прочла она на лице Сама.
— Прощай, и если навеки, то навеки, — ответила она еле слышно.
И вот вторая, а за ней третья коляска тронулись под проливным дождем на Николаевский вокзал. О, как вертелись колеса, как подпрыгивали кузова, как качались черные верхи, блестевшие траурным блеском!
Вера опомнилась. Перед ней был пустой камин, куда она смотрела, как в жестоком романе, сидя на стуле посреди этой гостиной, где когда-то проживал французский вельможа XVIII века. На черном экране камина была опущена лента этого детства, о котором так-таки некому было рассказать. Слезы высохли у нее на лице и оно слегка одеревенело.
— Наконец-то! — воскликнула Людмила, когда Вера вошла на кухню. — Куда это вы ходили? Тут без вас уж и слезы были, и крики, и капризы.
Ее быстрые, острые глаза обежали Верино лицо. И Вера в ответ будто в первый раз, внимательно посмотрела на нее.
Усталое, хмурое лицо, черные глаза. Расплакавшийся раз навсегда рот. Этой худой смуглой женщине давно — всегда — сорок лет. «Что же делать! — подумала Вера. — Может быть, где-нибудь раньше она бы сошла за красавицу, не ее вина, что в Париже, в двадцатых годах вышли из моды такие лица; усики, сросшиеся брови, жгучий взгляд, нос с горбинкой. Теперь в моде курносые, большеротые, круглолицые. Что делать…» — Удивительно, как совершенно ни во что теперь ценится женский плач — не дороже китового уса или страусового пера. Этот товар просто никому не нужен, — сказала сама Людмила однажды.