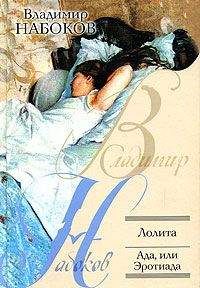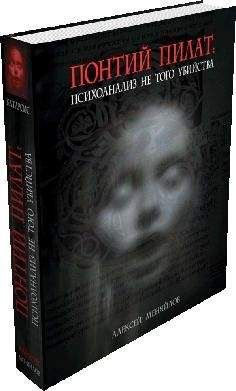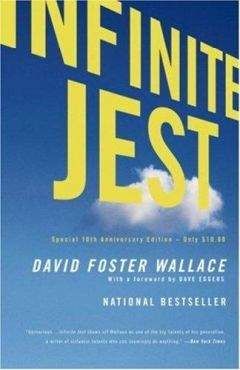– Конечно, в кино нет языковых проблем, – продолжала Ада (Ван между тем скорей проглотил, чем придушил зевок). – Марине и еще трем актерам не потребовался искусный дубляж, без которого не смогли обойтись остальные, не знающие языка исполнители; а в нашей несчастной Якиме постановщик мог опереться только на двух русских – на протеже Стэна, Альтшулера в роли барона Николая Львовича Тузенбаха-Кроне-Альтшауера, да на меня, игравшую Ирину, la pauvre et noble enfant[262], которая в первом действии работает телеграфисткой, во втором служит в городской управе, а под конец становится школьной учительницей. Остальные сооружали сущий винегрет из акцентов английского, французского, итальянского, – кстати, как по-итальянски «окно»?
– Finestra, sestra, – откликнулся Ван, изображая свихнувшегося суфлера.
– Ирина (рыдая): «Куда? Куда все ушло? Где оно? О Боже мой, Боже мой! Я все забыла, забыла... У меня перепуталось в голове... Я не помню, как по-итальянски потолок или вот окно...»
– Нет, окно в ее монологе идет первым, – сказал Ван, – потому что она сначала оглядывается вокруг, а потом поднимает глаза кверху: естественный ход мысли.
– Да, конечно; еще борясь с «окном», она поднимает взгляд и упирается им в столь же загадочный «потолок». Право же, я уверена, что сыграла ее в твоем, психологическом, ключе, но что толку, что толку? – режиссура была хуже некуда, барон перевирал каждую вторую реплику, – зато Марина, Марина была marvelous[263] в своем мире теней! «Десять лет да еще годок пролетели, как я уехала из Москвы – (Ада, играя уже Варвару, копирует отмеченный Чеховым и с таким раздражающим совершенством переданный Мариной «певучий тон богомолки»). Нет больше Старой Басманной улицы, на которой ты (к Ирине) родилась годков двадцать назад, теперь там Бушменная, по обеим сторонам мастерские да гаражи (Ирина с трудом сдерживает слезы). Зачем возвращаться туда, Аринушка? (Ирина рыдает в ответ)». Естественно, мать, пошли ей небо всего самого лучшего, чуточку импровизировала, как любая хорошая актриса. Да к тому же и голос ее – молодой, мелодичный, русский! – заменил сентиментальный ирландский лепет Леноры.
Ван видел эту картину, она ему понравилась. Ирландская девушка, бесконечно грациозная и грустная Ленора Коллин
Oh! qui me rendra ma colline
Et la grand chene and my colleen!
– мучительно напоминала Аду Ардис, сфотографированную вместе с матерью для фильмового журнальчика «Белладонна», который прислал ему Грег Эрминин, посчитавший, что Вану приятно будет увидеть тетушку и кузину, снятых в калифорнийском патио перед самым выходом фильма. Варвара, старшая из дочерей покойного генерала Сергея Прозорова, в первом действии приезжает из далекого монастыря, Обители Цицикар, в Перму, укрывшуюся средь глухих лесов, которыми поросли берега Акимского залива (Северная Канадия), на чаепитие, устроенное Ольгой, Маршей и Ириной в день именин последней. К великому огорчению монашки, все три ее сестры мечтают лишь об одном оставить промозглый, сырой, изнемогающий от комаров, но во всех иных отношениях приятный и мирный «Перманент», как шутливо прозвала городок Ирина, ради светских увеселений далекой греховной Москвы, штат Идаго, прежней столицы Эстотии. В первой сценической редакции, ни у кого не смогшей исторгнуть нежного вздоха, каким встречают шедевры, «Tchechoff» (так он, живший о ту пору в Ницце, в мизерном пансионе на улице Гуно 9, писал свое имя) втиснул в занявшую две страницы нелепую вступительную сцену все сведения, которые ему хотелось поскорее сбыть с рук, – комья воспоминаний и дат, груз слишком невыносимый, чтоб взваливать его на хрупкие плечи трех бедных эстоток. Впоследствии он перераспределил эти сведения по сцене гораздо более длинной, в которой приезд монашки Варвары дает повод рассказать все потребное для удовлетворения неуемного любопытства публики. Изящный образчик драматургического мастерства, но, к несчастью (нередко навлекаемому на автора персонажами, порожденными лишь желанием как-то вывернуться), монашка застряла на сцене до третьего, предпоследнего действия, в котором только ее и удалось спровадить назад в монастырь.
– Полагаю, – сказал знающий свою девочку Ван, – ты не просила Марину помочь тебе с ролью Ирины?
– Это привело бы лишь к ссоре. Ее советы всегда были мне неприятны, потому что она подавала их оскорбительно саркастическим тоном. Говорят, будто птицы-матери заходятся в нервных припадках, гневно издеваясь над своими бесхвостыми беднячками, когда тем не удается быстро выучиться летать. Сыта по горло. А кстати, вот и программка моего провала.
Проглядев список персонажей и перемещенных лиц, Ван отметил две забавных подробности: роль Федотика, артиллерийского офицера (единственный комедийный орган которого составляла вечно щелкающая камера) исполнял Ким (сокращенное от Яким) Эскимосов, а некто по имени «Джон Старлинг», фамилия которого происходила от слова «starling» – «скворец», играл Скворцова (секунданта в довольно-таки дилетантской дуэли последнего действия). Когда он сообщил о своем наблюдении Аде, та залилась краской на свойственный ей старосветский манер.
– Да, – сказала она, – он был очень милым мальчиком, я чуть-чуть пофлиртовала с ним, но переутомление и раздвоенность оказались для него непосильными, – он еще с отрочества состоял в puerulus у жирного учителя танцев по фамилии Данглелиф и в конце концов покончил с собой. Как видишь («румянец сменяется матовой бледностью»), я не скрываю от тебя ни единого пятнышка того, что рифмуется с Пермой.
– Вижу-вижу. А Яким...
– Ну, Яким – пустое место.
– Нет, я не о том. Яким, по крайней мере, не делал, как наш рифмоименный знакомец, фоточек твоего брата, обнимающегося со своей девушкой? В роли девушки Зара д'Лер.
– Точно сказать не могу. Помнится, наш режиссер считал, что несколько смешных эпизодов не повредят.
– Зара en robe rose et verte, конец первого действия.
– По-моему, за одной из кулис что-то щелкало и в доме смеялись. А у бедного Старлинга всей и роли было – крикнуть за сценой из плывущей по Каме лодки, подав моему жениху знак, что пора отправляться к барьеру.
Но перейдем лучше к дидактической метафористике друга Чехова, графа Толстого.
Кому из нас не знакомы старые гардеробы в старых гостиницах субальпийской зоны Старого Света? В первый раз их открываешь с особенной осмотрительностью, очень медленно, в пустой надежде приглушить раздирающий скрежет, нарастающий стон, который их дверцы испускают на середине пути. Вскоре, впрочем, понимаешь, что если открывать или закрывать дверцу проворно, одним решительным рывком, беря проклятые петли врасплох, то наградой тебе служит победная тишина. При всем изысканном, изобильном блаженстве, переполнявшем Вана и Аду (мы говорим здесь не об одном только росном соре Эроса), оба сознавали, что некоторые воспоминания лучше оставить закрытыми, чтобы страшные стенания их не вымотали одну за другой каждую жилку души. Но если производить операцию быстро, если поминать неизгладимое зло между двух бурливых каламбуров, тогда, быть может, сама жизнь, рывком закрывая дверь, изольет утоляющий боль бальзам и умерит неизбывную муку.
Время от времени она отпускала шуточки насчет его любовных грешков, хотя, вообще говоря, имела склонность закрывать на них глаза, как если бы сам разговор о них неявно подразумевал, что и ей следует быть откровеннее в описании собственной слабости. Ван проявлял пущую любознательность, однако получил из уст Ады едва ли больше сведений, чем из ее писем. Прошлым своим поклонникам Ада приписывала все уже знакомые нам черты и недочеты: вялость исполнения, ничтожество и пустопорожность, а самой себе – ничего, кроме легкого женского сострадания да кое-каких гигиенических и оздоровительных соображений, ранивших Вана сильнее откровенных признаний в страстной неверности. Внутренне Ада решила махнуть рукой на его и свои чувственные прегрешения: последнее прилагательное, являясь почти синонимом «бесчувственного» и «бездушного», тем самым лишается существования в неизъяснимой потусторонности, в которую безмолвно и робко верили и он, и она. Ван старался следовать той же логике, но не мог забыть позора и муки, даже когда достигал высот счастья, каких не ведал и в самые яркие минуты, предварившие мрачнейшие из часов его прошлого.
Они прибегали к множеству предосторожностей – совершенно напрасных, поскольку ничто не могло изменить окончания (уже написанного и уложенного в папку) этой главы. Одна лишь Люсетта да еще агентство, доставлявшее письма ему и Аде, знали адрес Вана. У услужливой дамы, приемщицы в банке Демона, Ван выведал, что отец не вернется в Манхаттан до 30 марта. Они никогда не выходили из дому вместе, договариваясь встретиться в начале дневных трудов в Библиотеке или в большом магазине, и надо же было случиться, чтобы в тот единственный раз, когда они отступили от этого правила (Ада на несколько панических мгновений застряла в лифте, а Ван беспечно спускался с их общей вершины по лестнице), оба попались на глаза старенькой госпоже Эрфор, проходившей со своим крошечным, шелковистым, желтовато-серым йоркширским терьером мимо их парадных дверей. Старушке не составило труда мгновенно и уверенно их припомнить: многие годы она была вхожа в обе семьи и теперь с удовольствием узнала из трепета (скорее, чем лепета) Ады, что Ван случайно оказался в городе как раз в тот день, когда она, Ада, случайно приехала с Запада; что у Марины все хорошо; что Демон теперь в Мексике то ли Емкиске; и что у Леноры Коллин точь-в-точь такой же чудный песик и с таким же чудным проборчиком вдоль спины. В тот же день (3 февраля 1893 года) Ван вторично подкупил уже лопавшегося от денег швейцара, дабы тот на любой вопрос, который задаст ему относительно Винов любой посетитель – особенно дантистова вдовушка с гусеничного обличия собачонкой, – отвечал коротко: знать, мол, ничего не знаю. Единственным персонажем, которого Ван не принял в расчет, был старый прохвост, изображаемый обыкновенно в виде скелета, а то еще ангела.