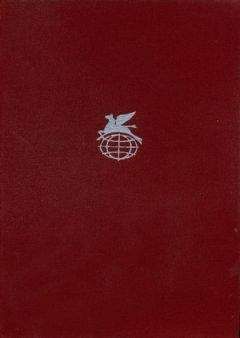Но как же тогда бабушка? И Королева Марго?
О Королеве я вспоминал с чувством, близким страху, — она была такая чужая всему, точно я ее видел во сне.
Я слишком много стал думать о женщинах и уже решал вопрос: а не пойти ли в следующий праздник туда, куда все ходят? Это не было желанием физическим, — я был здоров и брезглив, но порою до бешенства хотелось обнять кого-то ласкового, умного и откровенно, бесконечно долго говорить, как матери, о тревогах души.
Я завидовал Павлу, когда он по ночам говорил мне о своем романе с горничною из дома напротив.
— Вот, брат, штука: месяц тому назад я в нее снегом швырял, не нравилась мне она, а теперь сидишь на лавочке, прижмешься к ней — никого нет дороже!.. — О чем вы говорите?
— Обо всем, конешно. Она мне — про себя, а я ей — тоже про себя. Ну, целуемся… Только она — честная… Она, брат, беда какая хорошая!.. Ну, куришь ты, как старый солдат!
Я курил много; табак, опьяняя, притуплял беспокойные мысли, тревожные чувства. Водка, к счастью моему, возбуждала у меня отвращение своим запахом и вкусом, а Павел пил охотно и, напившись, жалобно плакал:
— Домой хочу я, домой! Отпустите меня домой…
Он был, помнится мне, сирота; мать и отец давно умерли у него, братьев, сестер — не было, лет с восьми он жил по чужим людям.
В этом настроении тревожной неудовлетворенности, еще более возбуждаемой зовами весны, я решил снова поступить на пароход и, спустившись в Астрахань, убежать в Персию.
Не помню, почему именно — в Персию, может быть, только потому, что мне очень нравились персияне-купцы на Нижегородской ярмарке: сидят этакие каменные идолы, выставив на солнце крашеные бороды, спокойно покуривая кальян, а глаза у них большие, темные, всезнающие.
Наверное, я и убежал бы куда-то, но на пасхальной неделе, когда часть мастеров уехала домой, в свои села, а оставшиеся пьянствовали, — гуляя в солнечный день по полю над Окой, я встретил моего хозяина, племянника бабушки.
Он шел в легком сером пальто, руки в карманах брюк, в зубах папироса, шляпа на затылке; его приятное лицо дружески улыбалось мне. У него был подкупающий вид человека свободного, веселого, и, кроме нас двоих, в поле никого не было.
— А, ПешкОв, Христос воскресе!
Похристосовались, он спросил, каково мне живется, и я откровенно рассказал ему, что мастерская, город и всё вообще — надоело мне и я решил ехать в Персию.
— Брось, — сказал он серьезно. — Какая там, к чёрту, Персия? Это, брат, я знаю, в твои годы и мне тоже хотелось бежать ко всем чертям!..
Мне нравилось, что он так ухарски швыряется чертями; в нем играло что-то хорошее, весеннее, весь он был — набекрень.
— Куришь? — спросил он, протягивая мне серебряный портсигар с толстыми папиросами.
Ну, это уж окончательно победило меня!
— Вот что, Пешков, иди-ка ты опять ко мне! — предложил он. — Я, брат, в этом году взял подрядов на ярмарке тысяч этак на сорок — понимаешь? Вот я и прилажу тебя на ярмарку; будешь ты у меня вроде десятника, принимать всякий материал, смотреть, чтоб всё было вовремя на месте и чтоб рабочие не воровали, — идет? Жалованье — пять в месяц и пятак на обед! Бабы тебя не касаются, с утра ты ушел, вечером пришел; бабы — мимо! Только ты не говори им, что мы виделись, а просто приходи в воскресенье на фоминой и — шабаш!
Мы расстались друзьями, на прощанье он пожал мне руку и даже, уходя, издали приветливо помахал шляпой.
Когда я сказал в мастерской, что ухожу, — это сначала вызвало у большинства лестное для меня сожаление, особенно взволновался Павел.
— Ну, подумай, — укоризненно говорил он, — как ты будешь жить с мужиками разными после нас? Плотники, маляры… Эх ты! Это называется — из дьяконов в пономари…
Жихарев ворчал:
— Рыба ищет — где глубже, добрый молодец — что хуже…
Проводы, устроенные мне мастерской, были печальны и нудны.
— Конечно, надо испробовать и то и это, — говорил Жихарев, желтый с похмелья. — А лучше сразу да покрепче зацепиться за одно что-нибудь…
— И уж на всю жизнь, — тихо добавил Ларионыч.
Но я чувствовал, что они говорят с натугой и как бы по обязанности, — нить, скрепляющая меня с ними, как-то сразу перегнила и порвалась.
На полатях ворочался пьяный Гоголев и хрипел:
— 3-захочу — все в остроге будут! Я — секрет знаю! Кто тут в бога верует? Аха-а…
Как всегда, у стен прислонились безликие недописанные иконы, к потолку прилипли стеклянные шары. С огнем давно уже не работали, шарами не пользовались, их покрыл серый слой копоти и пыли. Всё вокруг так крепко запомнилось, что, и закрыв глаза, я вижу во тьме весь подвал, все эти столы, баночки с красками на подоконниках, пучки кистей с держальцами, иконы, ушат с помоями в углу, под медным умывальником, похожим на каску пожарного, и свесившуюся с полатей голую ногу Гоголева, синюю, как нога утопленника.
Хотелось поскорее уйти, но на Руси любят затягивать грустные минуты; прощаясь, люди точно заупокойную литургию служат.
Жихарев, сдвинув брови, сказал мне:
— А книгу эту, Демона, я не могу тебе отдать — хочешь двугривенный получить за нее?
Книга была моей собственностью, — старик брандмейстер подарил мне ее, мне было жалко отдавать Лермонтова. Но когда я, несколько обиженный, отказался от денег, Жихарев спокойно сунул монету в кошелек и непоколебимо заявил:
— Как хочешь, а я не отдам книги! Эта книга — не для тебя, это такая книга, что с ней недолго и греха нажить…
— Да ее же в магазине продают, я видел!
Но он сугубо убедительно сказал мне:
— Это ничего не значит, в магазинах и пистолеты продают…
Так и не отдал мне Лермонтова.
Идя наверх, прощаться с хозяйкой, я столкнулся в сенях с ее племянницей, она спросила:
— Говорят — уходишь ты?
— Ухожу.
— Кабы не ушел, так бы выгнали, — сообщила она мне не очень любезно, но вполне искренно.
А пьяненькая хозяйка сказала:
— Прощай, Христос с тобой! Ты — нехороший мальчик, дерзкий! Хоть я плохого от тебя ничего не видала, а все говорят — нехороший ты!
И вдруг заплакала, говоря сквозь слезы:
— Был бы жив покойник, муженек мой сладкий, милая душенька, дал бы он тебе выволочку, накидал бы тебе подзатыльников, а — оставил бы, не гнал! А нынче всё пошло по-другому, чуть что не так — во-он, прочь! Ох, и куда ты, мальчик, денешься, к чему прислонишься?
Я еду с хозяином на лодке по улицам Ярмарки, среди каменных лавок, залитых половодьем до высоты вторых этажей. Я — на веслах, хозяин, сидя на корме, неумело правит, глубоко запуская в воду кормовое весло, лодка неуклюже юлит, повертывая из улицы в улицу по тихой, мутно задумавшейся воде.
— Эх, высока нынче вода, чёрт ее возьми! Задержит она работы, — ворчит хозяин, покуривая сигару; дым ее пахнет горелым сукном.
— Тише! — испуганно кричит он. — На фонарь едем!
Справился с лодкой и ругается:
— Ну и лодку дали, подлецы!..
Он показывает мне места, где, после спада воды, начнутся работы по ремонту лавок. Досиня выбритый, с подстриженными усами и сигарой во рту, он не похож на подрядчика. На нем кожаная куртка, высокие до колен сапоги, через плечо — ягдташ, в ногах торчит дорогое двухствольное ружье Лебеля. Он то и дело беспокойно передвигает кожаную фуражку — надвинет ее на глаза, надует губы и озабоченно смотрит вокруг; собьет фуражку на затылок, помолодеет и улыбается в усы, думая о чем-то приятном, — и не верится, что у него много работы, что медленная убыль воды беспокоит его, — в нем гуляет волна каких-то, видимо, неделовых дум.
А я подавлен чувством тихого удивления: так странно видеть этот мертвый город, прямые ряды зданий с закрытыми окнами, — город, сплошь залитый водою и точно плывущий мимо нашей лодки.
Небо серое. Солнце заплуталось в облаках, лишь изредка просвечивая сквозь их гущу большим серебряным, по-зимнему, пятном.
Вода тоже сера и холодна; течение ее незаметно; кажется, что она застыла, уснула вместе с пустыми домами, рядами лавок, окрашенных в грязно-желтый цвет. Когда сквозь облака смотрит белесое солнце, всё вокруг немножко посветлеет, вода отражает серую ткань неба, — наша лодка висит в воздухе между двух небес; каменные здания тоже приподнимаются и чуть заметно плывут к Волге, Оке. Вокруг лодки качаются разбитые бочки, ящики, корзины, щепа и солома, иногда мертвой змеей проплывет жердь или бревно.
Кое-где окна открыты, на крышах рядских галерей сушится белье, торчат валяные сапоги; из окна на серую воду смотрит женщина, к вершине чугунной колонки галерей причалена лодка, ее красный борт отражен водою жирно и мясисто.
Кивая головой на эти признаки жизни, хозяин объясняет мне:
— Это — ярмарочный сторож живет. Вылезет из окна на крышу, сядет в лодку и ездит, смотрит — нет ли где воров? А нет воров — сам ворует…