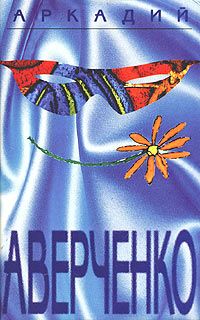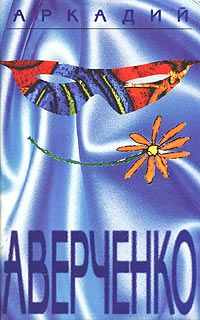2) Странно читать эту книгу, книгу утробного жизнерадостного смеха, в то время когда лучшая часть интеллигенции сидит в тюрьмах, когда самодеятельность общества задавлена, когда администрация не разрешает даже открытия потребительной лавки при станции Малаховка. Нет! Не смех, как самоцель, нам теперь нужен, а ядовитый бич сатиры нам теперь нужен. Автор усиленно подражает Мопассану и Горбунову. Спрашивается — похож ли он по манере письма на Чехова? Нисколько.
3) Автор изображает быт — и только. Ни смеха, ни юмора в книге нет. Это бытовые вещички, и они могут быть комичны постольку, поскольку комичен сам быт. В рассказах нет ничего общего с рассказами Чехова, но можно отметить сильное влияние на писателя Глеба Успенского. Пытается подражать молодой литератор и Достоевскому.
4) Глупое гоготанье никогда ни в ком не вызывало восторга. Подражать Лейкину легко, но как отнесется к этому читатель? — вот вопрос. Человек, который хохочет, если ему показать палец… Что делать такому человеку в великой русской литературе, хранящей заветы великого Белинского и Добролюбова? К сожалению, у автора с Чеховым нет ничего общего…
Я читал критические статьи и не знал, как мне быть? Я понимал еще тех критиков, которые находили, что я подражаю Виктору Гюго или Эдгару По. Но зачем некоторые из них считали нужным отметить, что я нисколько не похож на Чехова, Писемского и Октава Мирбо?
Я очутился в положении того молодого человека, к которому подошел праздный прохожий и с любопытством спросил:
— Вы не сын здешнего городского головы?
— Нет. А что? — совершенно искренно сказал тот молодой человек.
— Я так и думал: вы на него совсем не похожи.
Что делать нам, бедным писателям?
Я помню одного знакомого критика, который очень любил, когда я в большом обществе читал вслух свои новые произведения.
Он слушал чтение с удовольствием. Когда я кончал, он одобрительно кивал головой и задумчиво говорил:
— Очень хорошо!.. Только помнится мне, что я где-то уже что-то подобное читал.
Спина моя холодела.
— Не может быть? — испуганно говорил я. — Где же вы могли прочесть? Я только сейчас это написал. Только сегодня!
Он мялся.
— Мм… не знаю. Может быть. Но хорошо помню, что где-то в каком-то журнале я читал уже почти такую самую вещь.
Я схватывал его за руки, сжимал их и, чуть не плача, молил:
— Где? Где вы могли прочесть? Ну, вспомните!!
— Право, не припомню. Самый факт остался в памяти, а названия журнала и год издания не запомнил.
И все впечатление от рассказа пропадало, все настроение было испорчено.
И все слушатели были на его стороне, а на меня поглядывали иронически, и я читал в их взглядах:
— Что, батюшка? Стянул? Попался?!
Опозоренный, я уходил и, уходя, был твердо уверен: критик просто хотел блеснуть своей эрудицией, зная, что поймать его никак невозможно, и зная, что я совершенно беззащитен в этом случае.
У него было какое-то ужасное право на меня, неизвестно кем ему данное. А у меня на него не было никаких прав. Он со мной мог сделать все, что угодно, а я только мог тайком по ночам плакать и с кротостью молить Всевышнего, чтобы Он послал ему изнурительную лихорадку или эпилепсию.
Но Бог терпел его.
Бог стерпел даже его критическую статью обо мне, в которой он упрекнул меня за недостатки и безграмотность моего слога, причем написал об этом так:
— Автор приводимого юмористического рассказа, который еще молодой, в доказательство чего можно привести много погрешностей в слоге вышеозначенного, что и объясняется этим качеством.
III
За время моей литературной деятельности я получил целый ряд очень ценных советов, которыми за недосугом не воспользовался.
— Зачем вы пишете рассказы? — спросил меня однажды знакомый.
— Да так. А что?
— Напишите-ка роман.
— Почему?
— Ну, вот. Как же без романа? Обязательно напишите.
— Я бы и написал, — нерешительно возразил я, — но вот Петров находит, что я и так пишу большие вещи, Петров говорит, что теперь время миниатюр в сорок строк.
— Ваш Петров осел.
И если бы мой собеседник был моложе и если бы один глаз у него был подбит — в нем без труда можно было бы узнать мальчишку-критика, который советовал мне бросать камушек с закрытыми глазами.
Этот странный мальчишка день-деньской торчит около меня и мешает мне работать.
— Ты что пишешь-то? — спрашивает он, глядя через плечо и щуря подбитый глаз.
— Рассказ.
— И глупо. Пьесу нужно писать, а не рассказ.
Я уверен, что, если бы я отложил в сторону рассказ и начал писать пьесу, он снова ввязался бы в мою работу.
— Что ты делаешь?
— Пьесу пишу.
— Брось ее. Отчего бы тебе не написать повести из фабричного быта?
Если бы я ответил ему категорически:
— Не желаю.
Он тут же вздул бы меня.
И вот я отмалчиваюсь, а мальчишка бегает за мной и все советует:
— Пиши политические памфлеты! Отчего бы тебе не попробовать написать стихи? Мне кажется, тебе бы должны удаваться пародии!
Мы с ним никогда не поймем друг друга.
Я до самой своей смерти не прощу ему случая с моим рассказом «Праведник». Однажды, будучи в хорошем веселом настроении, я написал юмористический рассказ: хозяин дома восхищается прямолинейностью и откровенностью гостя, который много терпел за эти качества; хозяин преклоняется перед гостем, превозносит его, а гость, улучив минуту, набрасывается на хозяина и начинает обличать и разносить его с такой прямолинейностью, что для хозяина остается только один выход — выбросить моралиста-гостя за дверь.
Написав это, я был уверен, что написал презабавный юмористический рассказ. Но мальчишка с затекшим глазом не дремал. Он наткнулся на этот рассказ и написал о нем следующее:
— «Глубокая безысходная трагедия разыгрывается на протяжении нескольких страниц этого рассказа. Сердце щемит, когда подумаешь, сколько приходится вытерпеть человеку, ратующему за правду, как встречает этого пророка тупой косный индивидуум, шкура которого зачерствела и сердце превратилось в камень. Глубокий пессимизм автора и безотрадность всей вещи доказывает, что молодой писатель вступил на какой-то новый путь — путь беспросветного отчаяния. Со своей стороны мы приветствуем этот переход — от пустеньких смешных рассказов до подлинного произведения серьезного искусства. Влияния Чехова не чувствуется».
Попробовал бы я, по совету мальчишки с затекшим глазом, вступить на этот путь «бросания камнями с закрытыми глазами»! Читатель немедленно набросился бы на меня и поступил бы со мной по примеру кухарки квартиранта и того случайного господина, который так любил доставлять себе бесплатное удовольствие — колотить беззащитных детей.
А мальчишка с затекшим глазом стоял бы около, терпеливо перенес бы все доставшиеся мне побои, делая вид, что это не он заварил всю кашу, и, пожалуй, после всех — добил бы меня окончательно
Мы за пять лет. Материалы [к биографии]
Как будто кроваво-красная ракета взвилась в 1905 году… Взвилась, лопнула и рассыпалась сотнями кроваво-красных сатирических журналов, таких неожиданных, пугавших своей необычностью и жуткой смелостью.
Все ходили, задрав восхищенно головы и подмигивая друг другу на эту яркую ракету.
— Вот она где, свобода-то!..
А когда наступало туманное скверное утро, на том месте, где взвилась ракета, нашли только полуобгорелую бумажную трубку, привязанную к палке — яркому символу всякого русского шага — вперед ли, назад ли…
Последние искорки ракеты гасли постепенно еще в 1906 году, а 1907 год был уже годом полной тьмы, мрака и уныния.
С горизонта, представляемого кожаной сумкой газетчика, исчезли такие пышные бодрящие названия, как: «Пулемет», «Заря», «Жупел», «Зритель», «Зарево», — и по-прежнему заняли почетное место загнанные до того в угол тихие, мирные «Биржевые ведомости» и «Слово».
В этот период все успевшие уже привыкнуть к смеху, иронии и язвительной дерзости «красных» по цвету и содержанию сатирических журналов снова остались при четырех прежних стариках, которым всем в сложности было лет полтораста: при «Стрекозе», «Будильнике», «Шуте» и «Осколках».
Когда я приехал в Петербург (это было в начале 1908 года), в окна редакций уже заглядывали зловещие лица «тещи», «купца, подвыпившего на маскараде», «дачника, угнетенного дачей» и тому подобных персонажей русских юмористических листков, десятки лет питавшихся этой полусгнившей дрянью.
Пир кончился…
Опьяневших от свободных речей гостей развезли по участкам, по разным «пересыльным», «одиночкам»; и остались сидеть за залитым вином и заваленным объедками столом только безропотные: «дачный муж», «злая теща» и «купец, подвыпивший на маскараде».