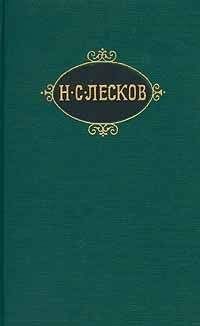— А вы думаете, что я такая персона, что вижу Горчакова запросто и могу с ним о вас разговаривать и сказать, что в Париже проживает второй Петр Иванович Бобчинский.
— Зачем Бобчинский — сказать просто, так, что было.
— А вы думаете, я знаю, что такое с вами было?
— Разумеется, знаете.
— Ошибаетесь: я знаю только, что вас цыгане с девятого воза потеряли, что вас землемер в тесный пасалтырь запирал, что вы на двор просились, проскользнули, как Спиноза, и ушли оттого, что не знали, почему сие важно в-пятых.
— Вот, вот это все и есть, — больше ничего не было.
— Неужто это так — решительно все?
— Да, разумеется, так!
— И больше ничего?
— Ничего!
— Припомните?
Припоминал, припоминал и говорит:
— Я у одной дамы был, она меня к одному мужчине послала, а тот к другому. Все добрые, а помогать не могут. Тогда один мне работу дал и не заплатил — его арестовали.
— Вы писали, что ли?
— Да.
— Что же такое?
— Не знаю. Я середину писал — без конца, без начала.
— И политичнее этого у вас всю жизнь ничего не было?
— Не было.
— Ну так вот же вам последний сказ: как вы себя дурно ни держали в посольстве, ступайте опять к этой даме и расскажите ей откровенно все, что мне сказали, — и она сама съездит и попросит навести о вас справки: вы, верно, невинны и, может быть, никем не преследуетесь.
— Нет; к ней-то уж я не пойду.
— Почему?
Молчит.
— Что же вы не отвечаете?
Опять молчит.
— Шерамур! ведь мы сейчас расстаемся! говорите: почему вы не хотите опять сходить к этой даме?
— Она бесстыдница.
— Что-о?
Я от нетерпения и досады даже топнул и возвысил голос:
— Как, она бесстыдница?
— А зачем она черт знает что читать дает.
— Повторите мне сейчас, что такое она дала вам бесстыдное.
— Книжку.
— Какую?
— Нет-с, я этого не могу назвать.
— Назовите, — я этого требую, потому что я уверен, что она ничего бесстыжего сделать не могла, вы это на нее выдумали.
— Нет, не выдумал.
А я говорю:
— Выдумали.
— Не выдумал.
— Ну так назовите эту бесстыдную книжку.
Он покраснел и засмеялся.
— Извольте называть! — настаивал я.
— Так… вы по крайней мере — того…
— Чего?
— Отвернитесь.
— Хорошо — я на вас не гляжу.
— Она сказала…
— Ну!
Он понизил голос и стыдливо пролепетал:
— «Вы бы читали хорошие английские романы…» и дала…
— Что-о таакое?!
— «Попэнджой ли он!»
— Ну-с!
— Больше ничего.
— Так что же тут дурного?
— Как что дурного?.. «Попэнджой ли он»… Что за мерзость.
— Ну, и вы этим обиделись?
— Да-с; я сейчас ушел.
Право, я почувствовал желание швырнуть в него что попало или треснуть его стаканом по лбу, — так он был мне в эту минуту досадителен и даже противен своею безнадежною бестолковостью и беспомощностью… И только тут я понял всю глубину и серьезность так называемого «петровского разрыва»… Этот «Попэнджой» воочию убеждал, как люди друг друга не понимают, но спорить и рассуждать о романе было некогда, потому что появился комиссионер и возвестил, что время идти в вагон.
Шерамур все провожал нас до последней стадии, — даже нес мой плед и не раз принимался водить туда и сюда мою руку, а в самую последнюю минуту мне показалось, как будто он хотел потянуть меня к себе или сам ко мне потянуться. По лицу у него скользнула какая-то тень, и волнение его стало несомненно: он торопливо бросил плед и побежал, крикнув на бегу:
— Прощайте; я, должно быть, муху сожрал.
Такова была наша разлука.
Париж давно был за нами.
По мере того как я освобождался от нервной усталости в вагоне, мне стало припоминаться другое время и другие люди, которых положение и встречи имели хотя некоторое маленькое подобие с тем, что было у меня с Шерамуром. Мне вспомянулся дерзновенный «старец Погодин» и его просветительные паломничества в Европу с благородною целию просветить и наставить на истинный путь Искандера, нежные чувства к коему «старец» исповедал в своей «Простой речи о мудрых вещах» (1874 г.). Потом представился Иван Сергеевич Тургенев — этот даровитейший из всех нас писатель — и «мягкий человек»; пришел на ум и тот рослый грешник, чьи черты Тургенев изображал в Рудине, — человек, которого Тургенев видел и наблюдал здесь же, в этом самом Париже, и мне стало не по себе. Это даже жалостно и жутко сравнивать. Там у всех есть вид и содержание и свой нравственный облик, а это… именно что-то цыганами оброненное; какая-то затерть, потерявшая признаки чекана. Какая-то бедная, жалкая изморина, которую остается хоть веретеном встряхнуть да выбросить… Что это такое? Или взаправду это уже чересчур хитро задуманная «загадочная картинка», из тех, которыми полны окна мелких лавчонок Парижа? Глупые картинки, а над ними прилежно трудят головы очень неглупые люди. Из этих головоломок мне особенно припоминалась одна: какой-то завиток — серая размазня с подписью: «Qu’est-ce que c’est?».[35] Она более всех других интригует и мучит любопытных и сбивает с толку тех, которые выдают себя за лучших знатоков всех загадок. Они вертят ее на все стороны, надеясь при одном счастливом обороте открыть: что такое сокрыто в этом гиероглифе? и не открывают, да и не откроют ничего — потому что там нет ничего, потому что это просто пятно и ничего более.
По возвращении в Петербург мне приходилось говорить кое-где об этом замечательном экземпляре нашей эмиграции, и все о нем слушали с любопытством, иные с состраданием, другие смеялись. Были и такие, которые не хотели верить, чтобы за видимым юродством Шерамура не скрывалось что-то другое. Говорили, что «надо бы его положить да поласкать каленым утюжком по спине». Конечно, каждый судил по-своему, но была в одном доме вальяжная няня, которая положила ему суд особенный притом прорекла удивительное пророчество. Это была особа фаворитная, которая пользовалась в доме уважением и правом вступать с короткими знакомыми в разговор и даже делать им замечания.
Она, разумеется, не принадлежала ни к одной из ярко очерченных в России политических партий и хотя носила «панье» и соблюдала довольно широкую фантазию, но в вопросах высших мировых coterie[36] держалась взглядов Бежецкого уезда, откуда происходила родом и оттуда же вынесла запас русских истин. Ей не понравилось легкомыслие и шутливость, с которыми все мы отнессились к Шерамуру; она не стерпела и заметила это.
— Нехорошо, — сказала она, — человек ничевошный, над ним грех смеяться: у него есть ангел, который видит лицо.
— Да что же делать, когда этот человек никуда не годится.
— Это не ваше дело: так бог его создал.
— Да он и в бога-то не верит.
— А господь с ним — глуп, так и не верит, и без него дело обойдется, ангел у него все-таки есть и о нем убивается.
— Ну уж будто и убивается?
— Конечно! Он к нему приставлен и соблюдет. Вы как думаете: ведь чем плоше человек, тем ангел к нему умней ставится, чтобы довел до дела. Это и ему в заслугу.
— Ну да, вы как заведете о дураке, так никогда не кончите. Это у вас самые милые люди.
Она слегка обиделась, начала тыкать пальцем в рассыпанные детьми на скатерти крошки и с дрожанием в голосе докончила:
— Что они вам мешают, дурачки! их бог послал, терпеть их надо, может быть, он определится к такой цели, какой все вы ему и не выдумаете.
— А вы этому верите?
— Я? почему же? верю и уповаю… А вот вам тогда и будет стыдно!
«Вот она, — думаю, — наша мать Федорушка, распредобрая, распретолстая, что во все края протянулася и всем ласково улыбнулася.
Украшайся добротою, если другим нечем».
Няня казалась немножко расстроена, и с нею больше не спорили и теплой веры ее не огорчали, тем более что никто не думал, что всей этой истории еще не конец и что о Шерамуре, долго спустя, получатся новейшие и притом самые интереснее известия.
Прошло около двух лет; в Герцеговине кто-то встряхнул старые счеты, и пошла кровь. Было и не до Шерамура. У нас шли споры о том, как мы исполнили наше призвание. Ничего не понимая в политике, я не принимал в этих спорах никакого участия. Но с окончанием войны я разделял нетерпеливые ожидания многих, чтобы скорее начинала дешеветь страшно вздорожавшая провизия. Под влиянием этих нетерпеливых, но тщетных ожиданий я, бывало, как возвращаюсь с прогулки, сейчас же обращаюсь к этажерке, где в заветном уголке на полочке поджидает меня докучная книжка с постоянно возрастающей «передержкой». И вот раз, сунувшись в этот уголок, я нахожу какую-то незнакомую мне вещь — сверток, довольно дурно завернутый в бумагу, — очевидно книга. На бумаге нет ничьего имени, но есть какие-то расплывшиеся письмена, писанные в самый край «под теснотку», как пишут неряхи. Начинаю делать опыты, чтобы это прочесть, и после больших усилий читаю: «долг и за процент ж. в. х.». Больше ничего нет.