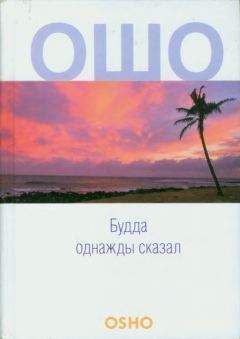В последующее время его ум постоянно возвращается к мыслям о боге, о смерти, о мертвых, о своем величии.
Он говорит, что бог «вчера после завтрака объявил с Эйфелевой башни его своим сыном, своим и Иисуса Христа», опять отказывается от всякой пищи, считая себя находящимся в агонии, требует причащения, собирается на дуэль с Казаньяком и генералом Феврие и, в конце концов, повернувшись к стене, опять ведет длинную беседу со своим умершим братом.
И так продолжается всю ночь. Он громко уверяет кого-то, что не писал какой-то статьи в «Фигаро». В конце концов кричит:
— Если эта статья подписана моим именем — это ложь! Я не имею никакого отношения к «Фигаро»! Я не писал в «Фигаро»! Это было на улице, в полдень! Облако закрыло Эйфелеву башню…
Затем уверяет, что у него украли шестьсот тысяч франков.
После плотного обеда он в первый раз пытается сесть писать, сесть за работу, «оставленную им вчера», но писать не может, пишет только телеграмму матери:
— Ты получишь завтра. Мы нашли в доме шестьсот тысяч франков. Хотели сжечь дом. Парижане на меня в ярости, потому что я распространяю запах соли. Мне причинили ужасную боль. Мне вскрыли желудок. Скоро будет большое открытие… И все бредит, бредит:
— Мой брат, похороненный два года назад, вернулся сегодня утром и утопился в Сене… Я сегодня утром принял лекарство, которое мне совсем помутило рассудок: у меня нет больше ни сердца, ни печени… В камне пробили дыру, и Он пришел утром в мою постель, чтобы убить меня…
— Мой дом в Париже сожгли…
— Генерал Негрие послал врача, чтобы осмотреть меня, и все это из-за моих демонических замыслов…
— Собралась вся чернь, чтобы убить меня, потому что я сжег свой дом…
— Вы меня слушаете, император? В эту минуту совершены тысячи преступлений…
В газетах на все лады обсуждается его болезнь, вспоминаются различные обстоятельства его жизни, ведутся лицемерные рассуждения о том, можно ли заключать больного — хотя бы и потревоженного в уме — против его воли в сумасшедший дом…
Но он уже далеко от всего этого. Круг преследующих его представлений все сужается:
— У меня искусственный желудок, поэтому он не может переносить мяса…
Ему кажется, что «соль сделала три отверстия в его черепе, и мозг вытекает через них». Он говорит, что его держат в этой больнице по приказу военного министерства, что Эрвье просит расширить его могилу, что Франсуа обокрал его — похитил у него семьдесят тысяч франков, что он умирает и хочет исповедаться, иначе его ждет ад, что Франсуа послал письмо богу, в котором обвиняет его в содомском грехе с курицей, с козой…
И без конца идут в его мозгу все одни и те же представления. Все его былые страхи, все мысли, все тревоги, все прежние попытки узнать что-нибудь из медицинских книг о своей растущей болезни — все возвращается к нему, но в каком виде!
В его бреду постоянно одно и то же: убийства, преследования, бог, смерть, деньги… Так выражаются теперь у него его прежние сложные, мучительные мысли, столько раз с такой точностью, с такой красотой и изяществом высказанные им!
И чем дальше, тем беспорядок в его мозгу все увеличивается. Он говорит целые дни, а иногда и целые ночи, кричит, жестикулирует…
Посещения знакомых неизменно приводят его в мрачное, подавленное состояние. Он почти не говорит с ними, отворачивается с недовольным видом, бормочет что-то. Может быть, подсознательно вспомнив, что больным базедовой болезнью не следует худеть, он вдруг начинает много есть. Потом удерживается от естественных отправлений и, когда ему вводят зонд, кричит, что в его моче драгоценные камни, что их хотят отнять у него…
К весне от него остается только тень прежнего человека.
Видевшие его незадолго до смерти говорят, что его лицо было землистого цвета, плечи сгорблены, рот раскрыт. Сидя в саду, под весенним голубым небом, он бессознательно поглаживал себе подбородок…
<1927>
Меня не раз спрашивали, что я думаю о таланте этого писателя, то есть кто такой этот писатель: просто ли очень талантливый фельетонист или же больше — известная художественная величина в современной русской литературе?
Мне кажется, что уже самая наличность этого вопроса предрешает ответ: спрашивающие чувствуют, что имеют дело не просто с популярным и блестящим газетным, злободневным работником, а с одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которых дают художественное наслаждение.
И вот я с удовольствием пользуюсь случаем сказать, что это чувство совершенно справедливо.
Дон-Аминадо гораздо больше своей популярности (особенно в стихах), и уже давно пора дать подобающее место его большому таланту, — художественному, а не только газетному, злободневному.
<1927>
<Предисловие к роману Франсуа Мориака «Волчица»>
Франсуа Мориак, один из самых замечательных — и едва ли не самый замечательный из современных французских писателей, — родился 11 октября 1885 года в Бордо. Там он провел первые двадцать лет жизни, воспитывался и учился. В 1906 году переехал в Париж, где и начал свою литературную деятельность. Первая же его книга — книга стихов, вышедшая в 1909 году, — обратила на себя внимание знатоков, сам Морис Баррес возвестил «рождение нового большого поэта». В 1912 году появился первый роман Мориака — «Дитя, отягченное цепями». «Поцелуй прокаженному» (вышедший в 1922 г.) принес ему уже славу. «Огненная река», «Женитрикс», «Пустыня любви», «Тереза Декейру», «То, что было потеряно», «Змеиное гнездо», «Тайна Фронтенаков» славу эту неизменно увеличивали. В 1925 году французская Академия присудила ему «Большую премию», а в 1933 году он сам становится академиком.
Как вкратце определить его?
Христианин, католик, воспитанник марианитов, несущий в себе страстное наследие пылкой крови людей, живших и умерших под огненным небом Ланд — предки его были земледельцами, фермерами, богатыми промышленниками в Ландах, — он внес противоречие этих двух натур и в свои создания. Редко кто так знает и чувствует всю глубину падения, греха человеческой природы и вместе с тем умеет писать столь обольстительно эту греховность. По его собственному признанию, он с юности предпочитал благонамеренным авторам Бодлера, Рембо и других «проклятых».
«Умел ли я когда-либо говорить о существах с открытой душой, блещущих добродетелями? Открытые души не имеют истории; но историю душ, глубоко скрытых и таящихся в теле, полном греха, я знаю», — говорит он в предисловии к одному из своих романов. И прибавляет, обращаясь к одной из своих героинь: «Я хотел бы, чтобы твоя боль привела тебя к богу».
Роман «Женитрикс», перевод которого мы предлагаем русским читателям под заглавием «Волчица», — сам автор употребляет это слово, говоря о главном лице этого романа, — Женитрикс, одно из самых страшных созданий Мориака, есть именно история одной из таких «глубоко скрытых душ». Эпиграфом к нему можно бы поставить те несколько строк Бодлера, которые он сам поставил перед другим своим романом и которые смело могли бы стоять во главе почти всего созданного им:
«Боже, смилуйся, смилуйся над безумными! О создатель! Могут ли существовать чудовища в глазах того единого, кто знает, почему они существуют, как они создались и как могли не создаться!»
Париж, 1938
Слава Модеста Гофмана, уже давно пекущего, как блины, всякие русские истории для французов, соблазнила Ивана Тхоржевского, доныне нам известного только в качестве многолетнего сотрудника газеты «Возрождение» по части плохих переводов разных иностранных поэтов: теперь перед нами целых два тома его прозаического труда: «Иван Тхоржевский. Русская литература. Издательство „Возрождение“. Париж. 1946».
Это «общая панорама» русской литературы, по заявлению самого Тхоржевского: «Русская литература, — категорически говорит он, будучи вообще весьма категоричен, — лучшее, что было создано до сих пор русским народом. А между тем ее жизнь все еще не развернута одной общей панорамой. Не сделан — а нужен! — критический пересмотр: что же из старого еще живо в русской литературе? и чему из нового суждено жить?» Речь, как видит читатель, идет о деле весьма серьезном и печальном. И вот Тхоржевский решил спасти положение, длившееся до него спокон веку без «одной общей панорамы», без «критического пересмотра». Труд и ответственность предстояли ему громадные, прав развернуть «одну общую панораму» того «лучшего, что было создано русским народом» за все века его существования, дать «критический пересмотр» этого «лучшего» и решить наконец: «Что же из старого еще живо и чему из нового суждено жить?» — прав на все это у Тхоржевского, мне кажется, не было и нет. Но вот он все-таки «развернул», «пересмотрел» — и «решил». Он размахнулся необыкновенно широко, пересмотрел русскую литературу от самых древних истоков ее вплоть до самых последних наших дней, а руководствовался в своем труде следующей мыслью своей, высказанной в предисловии к «Русской литературе».