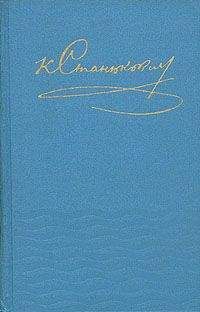— Это, верно, фендрики* наши шумят! — проговорил Василий Иванович, улыбаясь сочувственной доброй улыбкой.
IX
Действительно, человек восемь «фендриков», как шутя называл Василий Иванович гардемаринов и кондукторов, изрядно-таки шумели, собравшись в одном из нумеров нижнего этажа. Ужин был окончен, но бутылки еще не были допиты. Только что принялись за кофе с коньяком и закурили манилки*. Разговоры стали оживленнее и шумнее. Делились впечатлениями проведенного дня, мечтали о скором получении приказа, который даст желанные мичманские эполеты и, как водится, перемывали косточки адмиралу, вспоминая, как он «разносил» во время своего короткого плавания на клипере.
Когда анекдоты об адмирале были исчерпаны, кофе выпит и кто-то после шампанского потребовал несколько бутылок эля, заговорили о морской службе — этой любимой теме споров юных моряков, для которых морская профессия еще полна была заманчивой прелести, помимо служебных надежд и мечтаний.
— Служба наша, господа, тем хороша, что закаливает характер, приучает к самообладанию, дает широкий простор власти, — возбужденно заговорил Непенин, прозванный еще в корпусе «Юлкой» за умение очаровывать начальство, — маленький, чистенький, кудрявый брюнет, с первым пушком на румяных щеках и бойкими смеющимися глазами, оживлявшими его красивое лицо. — Прелесть плавания не в том, чтобы любоваться природой… это все вздор! — вызывающе прибавил он с напускным презрением к этому «вздору», бросая взгляд на соседа.
— Что?! Вздор?! Природа — вздор?! — вдруг сорвался его сосед, гардемарин с «задорным вихорком», допекавший старого артиллериста Фому Фомича за его «допотопные взгляды», отчаянный спорщик и добрейший малый. — Ты после этого, Юлка…
— Сидоров! Не перебивай… Дай Юлке докончить! — закричали со всех сторон.
— Я ему не дам говорить… Пусть он прежде откажется от своих слов!..
— А еще либерал! — насмешливо заметил Непенин. — Восхищаешься английским парламентом и не даешь слова сказать!
Этот аргумент оказывает на Сидорова чарующее действие.
— Ну, черт с тобой, говори, говори! Я после тебе докажу, что ты глуп, если природа — вздор! — не без досады замечает Сидоров.
— Докажешь?! Ты только умеешь ругаться как боцман, а не доказывать!.. — раздраженно кивнул Непенин в досаде, что его перебили… — Да, господа, вся прелесть морской службы именно в торжестве ума, энергии и власти… Разве не заманчиво, черт возьми, быть командиром какого-нибудь красавца клипера, а? Шторм… дьявольский шторм… Клипер под зарифленным фоком, штормовой бизанью и фор-стеньга-стакселем… Ты стоишь на мостике и только покрикиваешь рулевым: «Право! Лево! Одерживай!» Разве не наслаждение сознавать, что все зависит от тебя, от твоего уменья, от твоей воли, что все, начиная с последнего матроса и кончая старшим офицером, — лишь беспрекословные исполнители и ничего более. Один ты отвечаешь за все и за всех… Ты — царь на своей палубе! — восторженно восклицал юноша, слегка возбужденный вином и своими заветными мечтами.
— А главное, Юлка, отличное содержание у капитана. Можно откладывать! — неожиданно вставил внимательно слушавший Непенина плотный, коренастый, скромного вида молодой человек.
Взрыв хохота огласил комнату. Юлка презрительно взглянул на товарища.
— Ну, ты, Нефедка, известный копчинка[14]. Тебе в банкиры идти… Тут не в содержании дело, а в идее власти… Понимаешь? И-де-я си-лы власти! Разумеется, дисциплина должна быть настоящая… Строжайшая!.. Без этого невозможно… Недаром закон разрешает капитану в исключительных случаях повесить ослушника… Сентиментальности тут побоку!..
Сидоров уже давно в порыве негодования, сделал из своего вихорка какую-то сосиску, но уважение к английскому парламенту сдерживало его нетерпение задать Юлке «ассаже»*. Но, несмотря на пристрастие к парламентским нравам, долее он терпеть не мог и воскликнул:
— Юлка! Ты порешь дичь вроде Фомы Фомича… Нет! Хуже!.. хуже еще!.. Сила власти!.. Дисциплина!.. Ах ты ретроградина! Не желаешь ли ты ради дисциплины восстановить кошки, а? — гремел, снова распуская свой вихор, Сидоров… — Мало ему еще дисциплины… Надо «строжайшую»?! Ишь какой Наполеон на клипере нашелся!.. Того и гляди, господа, обгонит он нас всех по службе — недаром он Юлка, — сделается капитаном и кого-нибудь из нас да повесит!..
— И повешу, если нужно будет! — вызывающе крикнул Юлка, сверкая глазами.
— Ради идеи власти или ради карьеры? — ядовито протянул Сидоров.
— И тебя первого, Сидоров, повешу! Тебя первого, если ты попадешь ко мне под начальство и не исполнишь моего приказания! — проговорил, задыхаясь и злясь, Юлка. — Не посмотрю, что ты товарищ, а вздерну на фока-рее!
— Но прежде все-таки получишь в рожу, Юлка! Верь совести!
Все за столом расхохотались.
Не смеялся только бледнолицый, долговязый блондин, сидевший у окна, положив свою большую белобрысую голову на ладони и, казалось, погруженный в созерцание звезд, сверкающих на небе. При последних словах Юлки лицо молодого человека омрачилось. Он поднялся с места и медленно направился к столу.
Это был Лесовой, давно прозванный «Мечтателем». В его юношеском худощавом, нежном лице действительно было что-то задумчиво-мечтательное, оправдывавшее кличку, особенно в сосредоточенном взгляде больших серых глаз. Он пользовался среди товарищей авторитетом правдивой души и был любимцем матросов; он постоянно «лясничал» с ними и читал им книжки. Зато в сношениях с начальством напускал на себя суровую холодность заправского кадета, но был исправный служака, страстно любил море и еще в корпусе мечтал о путешествиях и об открытии полюса.
— Ты, Юлка, пьян и врешь на себя! — тихо проговорил он при наступившем молчании. — Разве можно и в шутку говорить такие вещи?!.
— Юлка не пьян… Юлка ничего не пил!.. — вставил Сидоров.
— У каждого, брат, свои убеждения! — уклончиво отвечал Юлка, несколько притихая перед этим серьезным взглядом Мечтателя.
— Повесить?! — с укором проговорил тот, и при этом чувство страха и отвращения исказило его черты.
Он остановился на секунду и продолжал:
— Ударить матроса и то… отвратительно, а ты: «повесить»!
— А если у тебя на судне бунт? — вдруг задал вопрос Юлка.
— Бунт? — переспросил Лесовой с такой серьезностью, точно и в самом деле он очутился в несчастном положении капитана, у которого на корабле свирепствует возмущение.
— Ну да, бунт, форменный бунт! Уж боцмана просвистали: «Пошел все наверх, командира за борт кидать!» — а ты сидишь в каюте и… мечтаешь! — иронически прибавил Юлка, взглядывая с насмешливой улыбкой на Мечтателя.
И все юные моряки, оставив стаканы недопитыми, уставились на Лесового.
В самом деле, как поступит человек, которого собираются немедленно швырнуть в море?
В виду такой перспективы казалось вполне естественным, что Мечтатель на минуту задумался.
— У Лесового не может быть бунта! — воскликнул Сидоров, видимо более всех сочувствовавший затруднительному положению товарища и не желавший, чтобы такой хороший человек, как Лесовой, вынужден был прибегнуть к насилию. — Против него никогда не взбунтуются! Ты, Юлка, напрасно думаешь смутить его своим дурацким вопросом.
— Постой, Сидоров! — остановил Лесовой своего защитника… — Я ему отвечу… Я согласен, что мной недовольны и меня хотят бросить за борт… Но кто виноват, что матросы взбунтовались? Разумеется, один я… Понимаешь ли, Юлка, я! — говорил Мечтатель тоном, не допускавшим сомнений в его виновности. — А если виноват я и если я не окончательный подлец, то неужели я еще должен наказывать людей за свою вину?.. Ведь надо сделать много гнусного, чтобы довести людей до бунта…
— Не в том вопрос: кто виноват… Я cпрашиваю: как ты поступишь? — торопил Юлка.
— Да, да… Как ты поступишь?.. — раздались нетерпеливые голоса.
— Трудно сказать, как я поступлю, но думаю, что выйду наверх и брошусь в море прежде, чем меня кинут за борт… Смерть лучше жизни, обагренной кровью других!.. — медленно, словно бы в раздумье, проговорил юноша.
Признаться, ни один из слушателей не ожидал, что Лесовой выйдет из положения столь трагическим образом. Такой исход, видимо, не удовлетворил молодых моряков.
— Ты мог бы уговорить матросов! — предложил поправку Сидоров. — Ты бы сказал им речь… ну, объяснил бы, что вперед будешь обращаться с ними лучше…
— Арестовал бы зачинщиков… — подсказывали другие…
— Еще короче — повесить одного для спасения всех! — заметил Непепин.
— Юлка, Юлка, как тебе не стыдно! — крикнул Лесовой, бросая на товарища взгляд, полный сожаления и укора, и, оставшись, по-видимому, при своем решении броситься в море, пожал плечами и отошел от стола на прежнее место, не считая нужным говорить более.