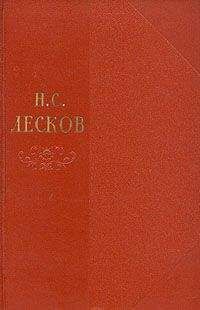— За что это тебя исколотили так? — спрашивали его.
Он обтирает кровь, которая льет из носа, и молчит; а другой парень за него и говорит:
— Сапогами хотел раздобыться, да изловили, псы окаянные.
На погосте куча народа стояла. Смотрю, два мещанина в синих азямах* держат за руки бабочку молоденькую, а молодой русый купчик или мещанин мыло ей в рот пихает.
— Что это такое? — говорю.
— Мылом, — говорят, — раздобывалась, да брюхатая; так бить ее купцы не стали, а вот мылом кормят.
— А вы зачем даете ее мучить?
— Попалась. Сама себя раба бьет, что не чисто жнет.
— Батюшки! отнимите меня. Я ведь только на пеленочки кусочек хотела взять, — стонала баба.
Купец ковырнул ногтем еще мыла и сунул его в рот бедной женщине.
Я побежал в избу к становому. Становой сидел у раскольницы Меланьи и благодушествовал с нею за наливкой.
— Милости просим, господин честной! — сказала мне подгулявшая Меланья.
Я рассказал становому об истязании бабы и просил его идти и отнять ее. Он махнул рукой и предложил мне наливки.
— Они, — говорит, — свое дело знают; сами разберутся.
Я настаивал. Становой послал на погост десятского, а сам налил новый стаканчик и сказал мне:
— То-то, господа! ведь это ваше самоуправление. Чего ж вы к нам ходите? — Самоуправление и самоуправство, по его мнению, одно и то же.
Прежний Настин барин умер, и Маша умерла по двенадцатому году; ее уморили в пансионе во время повального скарлатина. Старшая ее сестрица напоминает Ольгу Ларину*: «полна, бела, лицом кругла, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне». Матушка не видит дочерней пустоты и без ума от тех, кто хвалит ее «нещечко». Зато Машин братишка, Миша, отличный мальчик. Ему теперь четырнадцать лет, и он учится в губернской гимназии. В его лета мы и не думали о том, о чем он говорит сознательно, без фраз, без аффектаций. Училища не боится, как мы его боялись. Рассказывает, что у них уж не бьют учеников, как, бывало, нас все, от Петра Андреевича Аз — на*, нашего инспектора, до его наперсника сторожа Леонова, которого Петр Андреевич не отделял от себя и, приглашая учеников «в канцелярию», говорил обыкновенно: «Пойдем, мы с Леоновым восписуем тя». Теперь Миша с восторгом говорит о некоторых учителях; а мы ни одного из своих учителей терпеть не могли и не упускали случая сделать им что-нибудь назло. Учителей Миша любит вовсе не за послабления и не за баловство.
— Вот, — говорит он, — учитель русской словесности: какая душа! Умный, добрый, народ любит и все нам про народ рассказывает.
— А ты любишь народ? — спросил я Мишу.
— Разумеется. Кто же не любит народа?
— Ну, есть люди, что и не любят.
— У нас весь класс любит. Мы все дали друг другу слово целые каникулы учить мальчиков.
— И ты учишь?
— Учу.
— Хорошо учатся?
— О, как скоро! как понятливо!
— Ты, значит, доволен своими учениками?
— Я? Да, я доволен, только…
Нас позвали ужинать.
Когда я лег спать на диване в Мишиной комнате, он, раздевшись, достал из деревянного сундука печатный листок и, севши у меня в ногах, спросил:
— Вы знаете эти стишки Майкова?
— Какие? прочитай.
Мальчик начал читать «Ниву». Он читал с большим воодушевлением. На половине стихотворения у Миши начал дрожать голос, и он с глазами, полными чистых юношеских слез, дочел:
О боже! Ты даешь для родины моей
Тепло и урожай — дары святые неба;
Но, хлебом золотя простор ее полей,
Ей также, господи, духовного дай хлеба!
Уже над нивою, где мысли семена
Тобой насажены, повеяла весна,
И непогодами не сгубленные зерна
Пустили свежие ростки свои проворно:
О, дай нам солнышка! Пошли ты вёдра нам,
Чтоб вызрел их побег по тучным бороздам!
Чтоб нам, хоть опершись на внуков, стариками
Прийти на тучные их нивы подышать
И, позабыв, что их мы полили слезами,
Промолвить: «Господи! какая благодать!»
Мы с Мишей крепко пожали друг другу руки, поцеловались и расстались на другой день большими приятелями.
Расточитель
(Драма в пяти действиях)
(Посвящается артисту Н. Зубову)
Иван Максимович Молчанов, молодой купец, 30 лет. Одевается по-современному; держится ловко; носит бороду.
Марья Парменовна, жена его, 28 лет.
Пармен Семенович Мякишев, тесть Молчанова, купец рослый, тяжелый, с большою проседью; одевается по старине.
Анна Семеновна, жена его, купчиха лет за 40.
Фирс Григорьевич Князев, купец лет 60, бодрый, сдержанный и энергический. Седые волосы на его голове острижены низко и причесаны по-кадетски; борода довольно длинная, но узкая и тоже седая; одет в длинный сюртук, сделанный щеголевато. Вообще фигура очень опрятная. На носу золотые очки. — Первый человек в городе.
Иван Николаевич Колокольцов, товарищ Молчанова, 30 лет, городской голова.
Вонифатий Викентьевич Минутка, думский секретарь, из поляков.
Калина Дмитриевич Дробадонов, дядя Молчанова по женской линии, купец очень крупного телосложения, лет 42; одет неряшливо.
Иван Петрович Канунников — |
Матвей Иванов Варенцов — |пожилые купцы и члены Думы.
Илья Сергеев Гвоздев —-|
Марина Николавна Гуслярова, молодая женщина, лет 27, дочь няньки Ивана Молчанова, воспитанная в детстве в молчановском доме.
Старуха, мать Марины, слепая.
Алеша Босый, помешанный, слывет юродивым: он не носит никакой обуви и зиму и летом ходит босой, в одной длинной рубашке.
Спиридон Обрезов, старый ткач.
Павлушка Челночек, мастеровой.
Служанка в доме Мякишевых.
Алена — | слободские
Саша —| девушки.
Дросида, мать Алены.
Приезжий парень.
Двое детей Молчанова.
Фабричные, купцы мещане, полицейские солдаты квартальный.
Действие происходит в 1867 году, в большом торговом городе:
1-е — в садовой беседке у Князева,
2-е — в городском доме Молчанова,
3-е — в доме Мякишевых,
4-е — в парке при молчановских фабриках,
5-е — в доме Дробадонова.
Между 1-м, 2-м, 3-м и 4-м действиями проходит несколько дней, а между 4-м и 5-м три месяца.
Просторная садовая беседка, обращенная в летнее жилище Князева и убранная как кабинет достаточного человека, но несколько в старинном вкусе.
Явление 1
Князев (при поднятии занавеса сидит за старинным бюро карельской березы и читает письмо). «А к сему еще и то тебе, любезный Фирс Григорьевич, прибавлю, что у нас в столице ныне нечто совсем от прежнего отменилось, и хоша то и справедливо, что на всякую болезнь свое зелье растет, только ныне аптек тех уже нету, где зелье противу наших немочей приготовлялось. Суд старый рухнул, и при новых судебных выдумках я в деле, о коем ты пишешь, пособником быть считаю не безопасным. Одно, что могу тебе присоветовать, то признайся ты питомцу своему Молчанову, в чем грешен, и ненадлежаще от него присвоенное возврати. Иной же поправки сему делу в нынешние тяжкие времена не ожидай». (Нетерпеливо дергая письмо, продолжает скороговоркою.) «Молчанов пылок и добр, и если ты перед ним, как прочие купцы делают, хорошенько расплачешься, то он, пожалуй, и разжалобится…» (Комкает письмо.) Дурак, а не стряпчий! Черт его знает, что он мне за ответ написал! Я его спрашивал: как мне быть, чтобы не уронить себя, чтобы оправиться в молчановском опекунском деле и сдать отчеты без приплаты, а он вон что отвечает: «отдать!» Отдать!.. Да нечего отдать, глупец!.. Расплакаться!.. Кто это видел, как Фирс Князев плачет! и перед кем? И от чего заплакать?.. Ваш новый суд! Что ж это — люди, что ль, переменились? Вздор! Не может быть, чтоб человек с умом не сделал в России того, что хочет… Все это выдумка! Да, наконец, и граф Александр Андреич этого не может допустить. На него на полмиллиона векселей при таком суде представят, а он платить долгов не поважен. Пустое, вздор, мечтанье, форма… Нет, меня не запугаете, и пока этот лоб наруже, на Фирса Князева узды вам не накинуть.
Слышен стук в двери.
Кто там?
Явление 2
Минутка (входя). Не беспокойтесь: это я.
Князев. Что ты там пропадал столько времени? Велики, знать, очень секретарские разносолы.