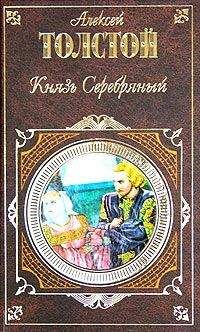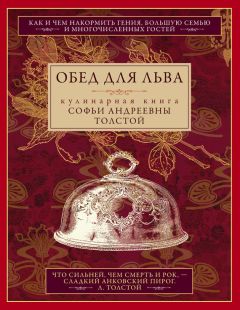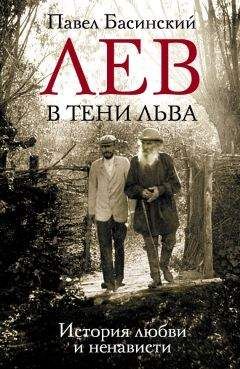– Максим, – сказал Серебряный, глубоко тронутый, – видит бог, и я тебе всею душой учинился братом; не хочу разлучаться с тобою до скончания живота!
– Спасибо, спасибо, Никита Романыч, и не след нам разлучаться! Коли, даст бог, останемся живы, подумаем хорошенько, поищем вместе, что бы нам сделать для родины, какую службу святой Руси сослужить? Быть того не может, чтобы все на Руси пропало, чтоб уж нельзя было и царю служить иначе, как в опричниках!
Максим говорил с непривычным жаром, но вдруг остановился и схватил Серебряного за руку.
Пронзительный визг раздался в отдалении. Воздух как будто задрожал, земля затряслась, смутные крики, невнятный гул принеслись от татарского стана, и несколько коней, грива дыбом, проскакали мимо Серебряного и Максима.
– Пора! – сказал Серебряный, садясь в седло, и вынул саблю. – Чур меня слушаться, ребята, не сбиваться в кучу, не рассыпаться врозь, каждый знай свое место. С богом, за мной!
Разбойники вспрянули с земли.
– Пора, пора! – раздалось во всех рядах. – Слушаться князя!
И вся толпа двинулась за Серебряным и перевалилась через холм, заграждавший им дотоле неприятельские костры. Тогда новое неожиданное зрелище поразило их очи. Справа от татарского стана змеился по степи огонь, и неправильные узоры его, постепенно расширяясь и сливаясь вместе, ползли все ближе и ближе к стану.
– Ай да Перстень! – вскричали разбойники, – ай да наши! Вишь, зажгли степь, пустили огонь по ветру, прямо на басурманов!
Пожар рос с неимоверною быстротой, вся степь по правую сторону стана обратилась в пылающее море, и вскоре огненные волны охватили крайние кибитки и озарили стан, похожий на встревоженный муравейник.
Татары, спасаясь от огня, бежали в беспорядке навстречу разбойникам.
– На них, ребята! – загремел Серебряный, – топчите их в воду, гоните в огонь!
Дружный крик отвечал князю, разбойники бросились на татар, и закипела резня.
…Когда солнце взошло, бой еще продолжался, но поле было усеяно убитыми татарами.
Теснимые с одной стороны пожаром, с другой – дружиной Серебряного, враги не успели опомниться и кинулись к топким берегам речки, где многие утонули. Другие погибли в огне или задохлись в дыму. Испуганные табуны с самого начала бросились на стан, переломали кибитки и привели татар в такое смятение, что они давили друг друга и резались между собою, думая отбивать неприятеля. Одна часть успела прорваться через огонь и рассеялась в беспорядке по степи. Другая, собранная с трудом самим ширинским мурзою Шихматом, переплыла через речку и построилась на другом берегу. Тысячи стрел сыпались оттуда на торжествующих русских. Разбойники, не имея другого оружия, кроме рукопашного, и видя стреляющих врагов, защищенных топкою речкой, не выдержали и смешались.
Напрасно Серебряный просьбами и угрозами старался удержать их. Уже отряды татар начали, под прикрытием стрел, обратно переплывать речку, грозя ударить Серебряному в тыл, как Перстень явился внезапно возле князя. Смуглое лицо его разгорелось, рубаха была изодрана, с ножа капала кровь.
– Стойте, други! стойте, ясные соколы! – закричал он на разбойников. – Аль глаза вам запорошило? Аль не видите, к нам подмога идет?
В самом деле, на противоположном берегу подвигалась рать в боевом порядке; ее копья и бердыши сверкали в лучах восходящего солнца.
– Да это те же татары! – сказал кто-то.
– Сам ты татарин! – возразил Перстень, негодуя. – Разве так идет орда? Разве бывает, чтоб татары шли пешие? А этого не видишь впереди на сером коне? Разве на нем татарская бронь?
– Православные идут! – раздалось между разбойниками. – Стойте, братцы, православные к нам на помощь идут!
– Видишь, князь, – сказал Перстень, – они, вражьи дети, и стреляют-то уж не так густо, значит, смекнули, в чем дело! А как схватится с ними та дружина, я покажу тебе брод, перейдем да ударим на них сбоку!
Новая рать подвигалась все ближе, и уже можно было распознать ее вооружение и одежду, почти столь же разнообразную, как и на разбойниках. Над головами ратников болтались цепы, торчали косы и рогатины. Они казались наскоро вооруженными крестьянами, и только на передовых были одноцветные кафтаны, а в руках их светились бердыши и копья. Тут же ехало человек сто вершников, также в одноцветных кафтанах. Предводитель этой дружины был стройный молодой человек. Из-под сверкающего шлема висели у него длинные русые волосы. Он ловко управлял конем, и конь серебристо-серой масти то взвивался на дыбы, то шел, красуясь, ровным шагом и ржал навстречу неприятелю.
Туча стрел встретила вождя и дружину.
Между тем Никита Романович вместе с своими перешел речку вброд и врезался в толпу врагов, на которых в то же время наперла с другой стороны вновь пришедшая подмога.
Уже с час кипела битва.
Серебряный на мгновение отъехал к речке напоить коня и перетянуть подпруги. Максим увидел его и подскакал к нему.
– Ну, Никита Романыч, – сказал он весело, – видно, бог стоит за святую Русь. Смотри, коли наша не возьмет!
– Да, – ответил Серебряный, – спасибо вон тому боярину, что подоспел к нам на прибавку. Вишь, как рубит вправо и влево! Кто он таков? Я как будто видал его где-то?
– Как, Никита Романыч, ты не признал его?
– А ты его разве знаешь?
– Мне-то как не знать его, бог с ним! Много грехов отпустится ему за нынешний день. Да ведь и ты знаешь его, Никита Романыч. Это Федька Басманов.
– Басманов? Этот! Неужто он!
– Он самый, и на себя не похож стал. Бывало, и подумать соромно, в летнике, словно девушка, плясывал; а теперь, видно, разобрало его: поднял крестьян и дворовых и напал на татар; должно быть, и в нем русский дух заговорил. А сила-то откуда взялась, подумаешь! Да как и не перемениться в этакий день, – продолжал Максим с одушевлением, и глаза его блистали радостью. – Поверишь ли, Никита Романыч, я сам себя не узнаю. Когда ушел я из Слободы, все казалось, что недолго уже доводится жить на свете. Тянуло померяться с нехристями, только не с тем, чтобы побить их; на то, думал, найдутся лучше меня; а с тем, чтобы сложить голову на татарскую саблю. А теперь не то; теперь мне хочется жить! Слышишь, Никита Романыч, когда ветер относит бранный гул, как в небе жаворонки звенят? Вот так же весело звенит и у меня на сердце! Такая чуется сила и охота, что целый век показался бы короток. И чего не передумал я с тех пор, как заря занялась! Так стало мне ясно, так понятно, сколько добра еще можно сделать на родине! Тебя царь помилует; быть того не может, чтоб не помиловал. Пожалуй, еще и полюбит тебя. А ты возьми меня к себе; давай вместе думать и делать, как Адашев с Сильвестром. Все, все расскажу тебе, что у меня на мысли, а теперь прости, Никита Романыч, пора опять туда; кажись, Басманова окружили. Хоть он и худой человек, а надо выручить!
Серебряный посмотрел на Максима почти отеческим взором.
– Побереги себя, Максим, – сказал он, – не мечись в сечу даром; смотри, ты и так уж в крови!
– То, должно быть, вражья кровь, – ответил Максим, весело посмотрев на свою рубаху, – а на мне и царапины нет; твой крест соблюл меня!
В это время притаившийся в камышах татарин выполз на берег, натянул лук и пустил стрелу в Максима.
Зазвенел тугой татарский лук, спела тетива, провизжала стрела, угодила Максиму в белу грудь, угодила каленая под самое сердце. Закачался Максим на седле, ухватился за конскую гриву; не хочется пасть добру молодцу, но доспел ему час, на роду написанный, и свалился он на сыру землю, зацепя стремя ногою. Поволок его конь по чисту полю, и летит Максим, лежа навзничь, раскидав белые руки, и метут его кудри мать сыру-земли, и бежит за ним по полю кровавый след.
Придет в Слободу весть недобрая, разрыдается мать Максимова, что не стало ей на помин души поминщика и некому ее старых очей закрыть. Разрыдается слезами горючими, не воротить своего детища!
Придет в Слободу весть недобрая, заскрежещет Малюта зубами, налетит на пленных татар, насечет в тюрьмах копны голов и упьется кровью до жадной души: не воротить своего детища!
Забыл Серебряный и битву и татар, не видит он, как Басманов гонит нехристей, как Перстень с разбойниками перенимают бегущих; видит только, что конь волочит по полю его названого брата. И вскочил Серебряный в седло, поскакал за конем и, поймав его за узду, спрянул на землю и высвободил Максима из стремени.
– Максим, Максим! – сказал он, став на колени и приподымая его голову, – жив ли ты, названый брат мой? Открой очи, дай мне отповедь!
И Максим открыл туманные очи и протянул к нему руки.
– Прости, названый брат мой! Не довелося пожить нам вместе. Сделай же один, что хотели мы вдвоем сделать!
– Максим, – сказал Серебряный, прижимая губы к горячему челу умирающего, – не заповедаешь ли мне чего?
– Отвези матери последний поклон мой, скажи ей, что я умер, ее поминая…
– Скажу, Максим, скажу, – ответил Серебряный, едва удерживаясь от слез.