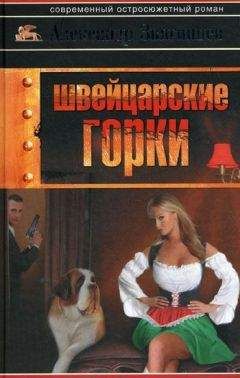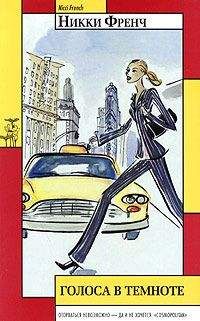Генрих Бёлль
Даниэль справедливый
Было еще темно, и женщина, лежавшая рядом, не видела его лица, поэтому вынести все это было легче. Она уже больше часа говорила, не замолкая, и ему не стоило никакого труда время от времени вставлять «да», или «да, конечно», или «ты совершенно права». Женщина, лежавшая рядом с ним, была его жена, но когда он думал о ней, он мысленно всегда называл ее «женщина». Она была даже красивая, и многие мужчины заглядывались на нее. Будь он ревнивцем, он мог бы ее ревновать, но он не ревновал. Он радовался темноте, которая скрывала от него ее лицо и позволяла ему ничего не изображать на своем. До чего утомительно день-деньской, до темноты, ходить с чужим выражением лица, быть на людях словно в маске!
— Если Ули провалится, — говорила она, — это будет просто катастрофа. Мари этого не переживет. Ты же знаешь, сколько ей пришлось выстрадать, верно?
— Да, конечно, — сказал он.
— Она сидела на одних сухарях, она... я просто не представляю себе, как все это можно вытерпеть... Неделями спать без простыней!.. К тому же, когда родился Ули, Эрик считался пропавшим без вести... Не знаю, что будет, если мальчик провалится на экзамене. Разве я не права?
— Ты совершенно права, — сказал он.
— Ты непременно должен повидать мальчика перед тем, как он войдет в класс, и как-нибудь ободрить его. Ты ведь сделаешь, что сможешь, правда?
— Да, — сказал он.
Таким же вот весенним днем тридцать лет назад он сам приехал в город, чтобы держать вступительный экзамен в гимназию; вечером пылающий закат багровым отсветом залил улицу, где жила его тетка, и ему, одиннадцатилетнему мальчишке, казалось, будто кто-то рассыпал по крышам домов жар из печки и вместо стекол вставил в рамы сверкающие листы раскаленного металла.
Потом, когда они сели ужинать, окна как бы подернулись зеленоватой ряской сумерек, но это длилось недолго, полчаса, не больше, те самые полчаса, когда женщины никак не могут решиться зажечь электричество. Тетка тоже долго не решалась, а когда она наконец повернула выключатель, из сотен домов, словно отвечая ее сигналу, хлынул на улицу, разрывая зеленоватую тьму, ослепительный желтый свет. Электрические лампочки, похожие на диковинные твердые плоды с острыми шипами, раскачивались в темноте.
— Ты не провалишься? — спросила тетка, а дядя, сидевший с газетой в руках у окна, недовольно покачал головой, видимо сочтя этот вопрос оскорбительным.
Потом тетка постелила ему в кухне на скамье. Вместо матраца положила стеганое одеяло. Дядя отдал ему свою перину, тетка — подушку.
— Ничего, скоро у тебя здесь будет своя постель, — сказала тетка. — А теперь спи. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — сказал он. Тетка погасила свет и ушла в спальню.
Дядя задержался в кухне, делая вид, будто ищет что-то в темноте. Пальцы его словно невзначай коснулись лица мальчика и тут же двинулись дальше, к подоконнику, а потом эти пальцы, пахнущие квасцами и шеллаком, вернулись назад и снова скользнули по его лбу и щекам. В кухне свинцом повисла его робость, и он скрылся в спальне, так и не сумев сказать того, что хотел.
«Нет, я не провалюсь», — подумал мальчик, когда остался один. Он представил себе мать, как она сидит сейчас дома у печки, вяжет, и время от времени роняет на колени руки, и шепчет молитвы, обращаясь к одному из тех святых, которых особенно чтит, — наверно, к Иуде Фаддею[1], хотя, быть может, он, крестьянский мальчонка, поехавший в город, чтобы поступить в гимназию, находится под опекой блаженного Боско[2].
— ...Есть вещи, которых просто нельзя допустить, — продолжала женщина, лежавшая рядом с ним, и так как она явно ждала ответа, он устало сказал: «Да, конечно», и с отчаянием в сердце заметил, что начало светать: неумолимо надвигался день, неся с собой самую трудную из всех его обязанностей: обязанность ходить в маске.
«Нет, — думал он, — часто, слишком часто происходят вещи, которых нельзя допустить».
Тогда, тридцать лет назад, лежа на скамье в темной кухне, он был полон надежд: он думал об арифметической задаче, которую завтра решит, о сочинении, которое напишет, и был уверен, что не провалится. Сочинение, наверное, дадут на тему: «Интересный случай из твоей жизни», и он точно знал, о чем будет писать — о посещении того дома, где находится дядя Томас: полосатые, зеленые с белым, стулья в приемной, и дядя Томас, который на все, что бы ему ни сказали, отвечает всегда одной и той же фразой: «Если бы в этом мире царила справедливость».
— Я связала тебе красивый красный свитер, — сказала мать дяде Томасу, — ты всегда любил красный цвет.
— Если бы в этом мире царила справедливость.
Они говорили о погоде, о коровах, немножко о политике, а дядя Томас все твердил одну и ту же фразу: «Если бы в этом мире царила справедливость».
Когда они уже собрались домой, он увидел в вестибюле с зелеными стенами узкогрудого человека со странно опущенными плечами, который стоял у окна и смотрел в сад.
Почти у самой калитки им повстречался приветливый господин и сказал матери с любезной улыбкой:
— Сударыня, прошу вас, не забывайте, что ко мне следует обращаться «ваше величество».
И мать тихо сказала ему:
— Ваше величество.
А потом, на трамвайной остановке, он еще раз поглядел на зеленый особняк, притаившийся за деревьями, и снова увидел стоящего у окна человека с опущенными плечами, и до него донесся странный смех — будто резали жесть тупыми ножницами.
— Кофе остынет, — сказала женщина, которая была его женой. — И съешь хоть что-нибудь, прошу тебя.
Он отхлебнул кофе и что-то съел.
— Знаю, — сказала женщина и положила ему руку на плечо, — знаю, тебя опять терзают твои вечные сомнения — справедливо ли будет так поступить, но сам подумай, что может быть несправедливого в желании помочь ребенку? Ведь Ули тебе нравится.
— Да, — ответил он, и это «да» было искренним. Ули ему нравился: хрупкий, приветливый мальчик, по-своему не глупый, но учиться в гимназии было бы для него мукой. Даже занимаясь с репетитором, он, несмотря на подстегивание честолюбивой матери и покровительство директора, все равно никогда, как ни старайся, не сможет подняться над посредственностью. Жизнь будет ему всегда в тягость, ибо карьера, которую ему выбирают, явно не по нем.
— Ты обещаешь помочь Ули, да?
— Да, — ответил он, — я помогу ему.
Он поцеловал в щеку свою красивую жену и отправился в гимназию. Шел он медленно, зажав в губах сигарету, — он сбросил маску и наслаждался покоем, чувствуя, что лицо больше не сковано чужим выражением. Он остановился перед витриной мехового магазина, чтобы посмотреть на себя. Между серыми тюленьими и полосатыми тигровыми шкурами, на фоне черного бархата, которым была задрапирована витрина, он увидел свое отражение — бледное, слегка одутловатое лицо человека за сорок, лицо скептика, быть может, даже циника, а вокруг этого бледного, одутловатого лица белесым облачком вился дымок сигареты. Альфред, его друг, умерший год назад, все говорил ему: «Ты никогда не мог справиться с тем, что я бы назвал ressentiment[3], да и все, что ты делаешь, слишком уж подвластно эмоциям». Альфред не имел в виду ничего плохого, напротив, он думал, что нашел точное слово, но разве можно одним словом определить человека, a ressentiment к тому же одно из самых дешевых, самых удобных слов.
Тогда, тридцать лет назад, лежа на скамье в теткиной кухне, он думал: «Такого сочинения, как я, никто не напишет; ни у одного из мальчиков наверняка в жизни не было такого интересного случая». А перед тем как заснуть, он думал еще и о другом: на этой скамье ему теперь спать девять лет, а за этим столом — учить уроки целых девять лет, и всю эту вечность его мать дома, в деревне, будет сидеть у печки, вязать и шептать молитвы. Он слышал, как в соседней комнате разговаривают дядя и тетка, но уловить смог только одно слово — свое имя: Даниэль. Значит, они говорили о нем, и хотя он не слышал, что они говорят, знал, что говорят только хорошее. Они любили его, своих детей у них не было. И вдруг его охватил страх. «Через два года, — подумал он в смятенье, — скамья эта станет для меня слишком короткой. Где же я тогда буду спать?» Несколько минут эта мысль терзала его, но потом он успокоился: «Два года — это так бесконечно долго... Впереди столько времени... Столько неведомого, которое будет проясняться с каждым днем...» И он вдруг погрузился в то неведомое, которое подступило вплотную в ночь перед экзаменом, а во сне его преследовала картина, висевшая на стене, между буфетом и окном: мужчины с суровыми лицами толпятся у заводских ворот, у одного из них в руке рваное красное знамя. Во сне мальчик легко прочел надпись, которую лишь с трудом разобрал бы наяву, в полутьме, царившей в комнате: «ЗАБАСТОВКА».
Он оторвал взгляд от своего бледного лица, которое, навязчиво мерцая, словно его нарисовали серебром на черном полотне, висело где-то между серыми тюленьими и полосатыми тигровыми шкурами; оторвал с трудом, нерешительно, потому что видел за этим лицом того мальчика, которым когда-то был.