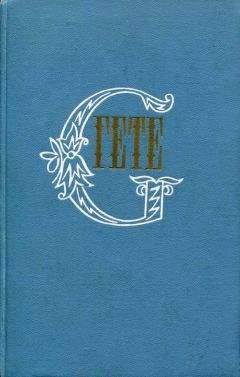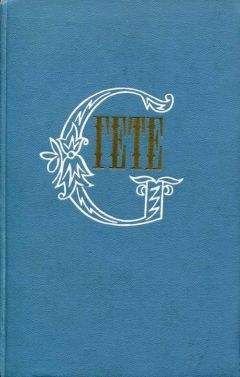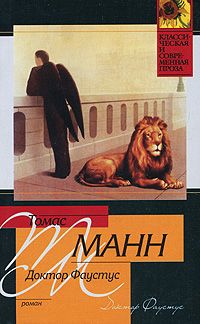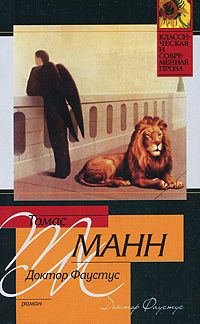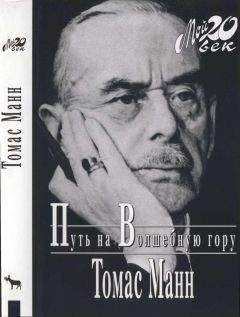Манн Томас
Лотта в Веймаре
Томас Манн
Лотта в Веймаре
Роман
Перевод с немецкого Наталии Ман
{1} - Так обозначены ссылки на примечания соответствующей страницы.
Оглавление
H.Вильмонт.
Гете в романе Томаса Манна
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Приложение. Томас Манн. "Вертер" Гете.
Пер. Н.Касаткиной
Примечания Р.Миллер-Будницкой
ГЕТЕ В РОМАНЕ ТОМАСА МАННА
1
Роман "Лотта в Веймаре" ко времени его написания был вершиной и синтезом двух рядов более ранних произведений Томаса Манна: его рассказов о художнике - "Тонио Крегер", "Тристан", "Смерть в Венеции" - и его статей и исследований, посвященных личности и творчеству великого Гете, - "Гете и Толстой", "Гете как представитель бюргерской эпохи" и, наконец, замечательного этюда о "Вертере". Этот этюд автор заключил призывом написать рассказ или даже роман, посвященный поздней встрече Гете с Шарлоттой Кестнер, урожденной Буфф, - прототипом Вертеровой Лотты, которую сорок один год тому назад полюбил безвестный тогда молодой поэт, состоявший (не слишком усердным) адвокатом-практикантом при "Имперской судебной палате" в Вецларе. Первым и единственным, кто откликнулся на этот призыв, был сам Томас Манн, год спустя написавший свою "Лотту в Веймаре".
Эта книга - не "последнее слово", сказанное писателем о роли художника в формировании человеческого общества. Таковым позднее стал его "Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом". В этом едва ли не наиболее значительном произведении писателя преодолено его былое ограниченное понимание проблемы художника и искусства, высказано непреложное требование, чтобы художник ушел из эстетического затвора и, "побратавшись с народом", примкнул к его борьбе за справедливое переустройство общества, без чего, по убеждению Манна, немыслимо дальнейшее существование искусства.
Эта революционизирующая роль искусства еще не открылась писателю в годы созревания замысла "Лотты в Веймаре", хотя его мысль двигалась в этом направлении уже и тогда. В аспекте всегда волновавшей Манна проблемы художник и общество повесть о встрече "веймарского олимпийца" с престарелой Лоттой - переходная книга, ступень, а не вершина его неустанных глубоких раздумий о назначении искусства.
С тем большим правом можно утверждать, что эта книга - лучшее, что удалось написать Т.Манну о Гете. Ценность романа-биографии как жанра, по нашему убеждению, в том, что он не столько анализирует и обобщает (на этом поприще исследователь может и превзойти художника-беллетриста), сколько воссоздает образ героя в его неповторимой жизненности. Проникновение в душевный мир гениального человека, способность сообщать всем его словам и поступкам печать неподдельной гениальности независимо от справедливости или несправедливости авторской концепции - вот что здесь главное. В этом-то главном, решающем пункте Томас Манн добился полной победы, сколько бы мы ни оспаривали его тогдашних взглядов на искусство и на самого Гете, - взглядов, которые лучше всего опроверг он сам своим позднейшим творчеством, и в первую очередь "Доктором Фаустусом".
"Лотта в Веймаре" писалась в годы добровольного изгнания Томаса Манна, когда на его родине бесчинствовала банда гитлеровцев. Это книга большого и гордого одиночества, озаренного глубокой верой в то, что Германия - не они, а он, Томас Манн, один из достойнейших ее сынов; в ней - заклинание прошлого без неразумного намеренья претворить его в настоящее и все же не без тайной надежды воздействовать им на современность. Это роман и вместе с тем книга раздумий. Ее манера и стиль напоминают облегченного Гете-прозаика, автора "Правды и поэзии" и философских глав "Вильгельма Мейстера". Удивительнее всего, что некоторые страницы, некоторые отношения автора к изображаемому идут от Достоевского, но это в большей степени полемика, чем единомыслие с ним. Ибо истинный пафос книги, как, впрочем, и всего творчества Томаса Манна, в преодолении мира темных страстей и порывов, страшного подполья светом благого разума.
Мир неустройства, жестокой нелепицы непомерно громаден. Быть унесенным, смытым кипящей стихией неукрощенной природы и социального зла так легко и так "естественно", что раскрепощать эти темные силы не только не дело искусства, но даже нечто исконно враждебное искусству. Искусство преодоление бесформенного. Образ плотины из второй части "Фауста" - прототип не только грядущей, но и всякой культуры. Такова заветная мысль Томаса Манна. Искусство потому так и занимало воображение писателя, что он усматривал в нем закон и подобие, общие для всякого культурного созидания, для всего этического мира. Пример искусства - вот чем Томас Манн предлагает руководствоваться человеку.
В чем же существенный смысл этого "примера"?
Но прежде чем ответить на этот вопрос (в сложной, во многом и просто неверной его постановке автором "Лотты"), несколько замечаний о форме, о манере и стиле этой книги.
"Лотту в Веймаре" отличают прозрачность и чистота речи, то большое словесное искусство, которое кажется самой безыскусностью - так точно оно соразмерено с изображаемым. "Пафос точности" - пафос манновской прозы. "Любовь к вещи, к предмету, страсть к предмету, восхищение предметом является предпосылкой всякого формального совершенства, - писал некогда Томас Манн, откликаясь на письмо немецких педагогов, - ...и здесь прежде всего надо сломить один давний наш национальный предрассудок, согласно которому дельность изложения будто бы исключает красоту речи, предрассудок, свидетельствующий об одинаковом непонимании и того и другого... Следует внушить ученикам: красота не щегольство и не довесок, а естественная прирожденная форма всякой мысли, которая достойна быть высказанной". Эти утверждения Манна тем более близки русскому читателю, что они перекликаются с пушкинским требованием от прозы "мыслей и мыслей - без них блестящие выражения ни к чему не служат...".
Томас Манн всегда стремился к такому сугубо "дельному" стилю. Впрочем, не только к "дельному", но и благородно сдержанному, прибранно-благопристойному - так властно здесь заявляет о себе скупая на жест и слово северонемецкая локальность. Эта сдержанность, эта размеренность речи не покидает Манна и тогда, когда он касается патологических явлений в человеческой психике, а последним в его творчестве уделено немалое место.
Несмотря на всю свою сдержанность и "трезвость", проза Манна проникнута истинной музыкальностью, и притом в такой степени, что заставляет усомниться в правомерности нашего "несмотря". Должно быть, музыкальность слова (и прежде всего - прозаического) связана не столько со звукописью, сколько с внутренней тональностью чувства, исключающей всякую случайность в словесном отборе. Музыка манновской прозы звучит немного салонно и старомодно-игриво, не без аристократической неприязни ко всему неотесанному - и все же вмещает в себя всю громаду человеческой души с ее радостями и томлениями, надеждой и отчаянием. "В этом что-то от Шопена", - заметил один выдающийся советский музыкант, и мы не станем оспаривать выдвинутой параллели.
Что отличает язык и стиль "Лотты в Веймаре" от языка и стиля большинства других произведений Томаса Манна? Последовательная и строгая объективность изложения. Между объектом повествования и рассказчиком в творчестве Манна обычно соблюдается известная дистанция. Последнее особенно относится к "Волшебной горе", где автор, не без некоторого кокетства, обыгрывает эту дистанцию, то учтиво извиняясь за запоздалое представление читателю того или иного действующего лица, то вдаваясь в рассуждения по поводу свершившегося, отменно остроумные и тонкие, всегда носящие отпечаток личной манеры рассказчика, - сочетание светской непринужденности с глубиною воззрений. В этой книге Манна почти выпала роль такого субъективного толкователя изображаемых событий. Голос рассказчика в "Лотте в Веймаре" не только не уводит в сторону, избегает лирических и философских отступлений (исключение составляет разве что замечательный абзац из шестой главы романа: "Время, время! И мы его дети..." - впрочем, звучащий почти как преображенный монолог растроганной героини), но чаще голос автора и вовсе смолкает, уступая слово действующим лицам - весьма искусным собеседникам, как и следовало ожидать от людей столь литературной эпохи, как эпоха Гете и Шиллера.
Такой объективизм изложения стоит в прямой связи с самим жанром, к которому принадлежит этот роман, - с историческим жанром. Автор "Волшебной горы" подобно рассказчику из романов Достоевского был вправе вести себя как зоркий свидетель свершающихся событий, в известной мере как их участник. Не то при изображении происшествий более отдаленной эпохи: здесь автор прорицатель прошлого, не летописец современности.