100-летию со дня рождения посвящается
Рецензент доктор филологических наук
Д. Урнов
Вступительная статья, комментарии и переводы
Л. Володарской
Художник
Ю. Сковородников
© Состав, вступительная статья, комментарии, переводы
Издательство «Книга», 1989
Кэтрин Мэнсфилд и ее рассказы
«Я мчусь, грозу в груди тая…» Эта фраза из стихотворения Кэтрин Мэнсфилд «Весенний ветер в Лондоне» — самый точный, на наш взгляд, эпиграф и к жизни, и к творчеству писательницы. Она любила людей и верила в литературу, в ее способность разбередить душу человека, перевернуть привычные представления о жизни — и тогда, может быть… Однако не будем домысливать за автора, сказавшего свое слово, и сказавшего его так, что и через много десятков лет нам есть о чем задуматься, читая и перечитывая рассказы писательницы.
Кэтрин Мэнсфилд родилась в Новой Зеландии. Здесь же прошли ее детские годы. Еще два-три десятилетия назад критика оставалась равнодушной к этому факту как не имеющему значения для творчества писательницы. Исследования последних десятилетий доказали обратное. И дело здесь не только во многих событиях и персонажах из новозеландской жизни Мэнсфилд, которые воссозданы и в ранних, и в последних рассказах. Гораздо важнее другое. Новозеландская действительность впервые столкнула Мэнсфилд с понятиями духовности и бездуховности, таким образом оказав решающее влияние на мировоззрение Мэнсфилд. Для того чтобы понять это, нужно хорошо представлять себе, что сегодняшняя Новая Зеландия совсем не похожа на ту, которая на стыке XIX и XX столетий была едва ли не самой дальней колонией Великобритании, иначе говоря, глухой провинцией.
Много веков назад далекие южные острова дали приют первым переселенцам — маори, которые назвали свою новую родину Аотеароа — страна длинного белого облака. Откуда они приплыли и что заставило их покинуть обжитые земли, неизвестно. Однако известно, что они были искусными мореходами и не менее искусными воинами и поэтами. Потом Аотеароа была открыта европейцами. Сначала, в XVII веке, голландцами, давшими ей новое имя — Новая Зеландия — в честь голландской провинции, восставшей против испанского владычества в XVI веке. Но голландцы не осмелились покинуть корабль и сойти на землю. Это сделал капитан Кук, в 1769 году водрузивший здесь флаг Британской империи. Пользуясь разобщенностью маорийских племен, британцы разыграли в 1840 году фарс добровольного присоединения Новой Зеландии. Этот год стал началом новой эры в жизни Аотеароа.
С Британских островов сюда хлынул поток обездоленных граждан метрополии, мечтавших вырваться из нищеты, не боявшихся никакой работы, но и не склонных считаться с правами аборигенов. Выказав по отношению к маори, возможно, еще большую жестокость, чем та, от которой они сами бежали «на край земли», британцы вызвали взрыв ненависти к себе, который объединил разрозненные и даже враждовавшие племена в справедливой войне против колонизаторов (1843–1872). В результате так называемых маорийских войн Новая Зеландия стала единственной в то время колонией Британии, где местное население получило равные права с европейцами. Разумеется, эти права в основном остались на бумаге; маори воевали, а британцы (главным образом, ирландцы и шотландцы), отступая и вновь наступая, терпя поражения и побеждая, все глубже вгрызались в чужую землю.
До глухой провинции не доходили отзвуки напряженной политической и духовной жизни Европы. Она работала не покладая рук и добывая деньги. В конце XIX столетия новозеландцы европейского происхождения обрели более или менее сытое существование. Голодное прошлое осталось где-то в другой жизни, о нем не хотелось вспоминать. Гордясь своими достижениями, потомки переселенцев в конце концов ощутили и гордость за свою новую родину. Национальное самосознание, впервые возникшее на рубеже веков, стало новой, более высокой степенью объединения людей.
Однако и в этом «земном раю» далеко не все богатели. Здесь тоже были бедные и богатые, слуги и господа, разве лишь расслоение еще не достигло такой глубины, как в развитых европейских странах.
До двадцатых годов нашего столетия Новая Зеландия «делала деньги», мало заботясь о духовной жизни своих граждан. Отдельные сборники стихотворений или романы апологетичны по сути и более или менее подражательны по форме. Литературы, в общем-то, не было. Были немногочисленные поэты и писатели, в разные годы по-разному воспринимавшие свое присутствие на островах — удивленно, отстраненно, радостно, восхищенно и т. д. Только великое потрясение, вызванное экономическим кризисом 1920— 1930-х годов, который обрушился на все капиталистические страны, не исключая и Новую Зеландию, заставил их по-другому взглянуть на себя и окружающую жизнь и окончательно избавиться от всяких вольных или невольных претензий на экзотику. Именно в эти годы родилась национальная литература Новой Зеландии, которая наследовала все самое значительное, что было создано примерно за восемьдесят лет пребывания «европейцев» на островах, богатых фольклорной традицией. Несомненно, одним из наиболее ценных обретений стало творчество Кэтрин Мэнсфилд, чье главенствующее влияние неоспоримо и подтверждено не только учреждением премии ее имени, но и всем последующим развитием новозеландской прозы. Кэтрин Мэнсфилд росла в то время, когда понятия «новозеландская литература» еще не существовало и только человек, наделенный смелым воображением, мог предвидеть ее появление в стране, где не было ни одного литературного журнала, где в немногих выходящих в свет произведениях воспевались, как правило, экзотические красоты местной природы, благородные белые рыцари, прелестные маорийские принцессы и сторицей вознаграждаемое трудолюбие фермеров. Конечно, среди них были книги, написанные искренним и талантливым пером. Но если всего книг печаталось ничтожно мало, то такие и вовсе можно было по пальцам пересчитать…
Девочка, от рождения наделенная незаурядной восприимчивостью, вглядывалась в совсем не простую жизнь и видела, как объединяют людей житейские трудности и разъединяет благополучие. Она видела не понимающих друг друга мужей и жен, детей и родителей, может быть, еще не осознавая этого, хотела знать, почему люди незаурядные, как правило, обречены на одиночество. Многие детские «почему» Мэнсфилд, возникшие в соприкосновении с новозеландской действительностью, а потом появившиеся в ее рассказах, долгое время рассматривались в критике как результат влияния английской или русской литературы единственно потому, что Кэтрин Мэнсфилд была первой новозеландской писательницей, осмыслившей и воплотившей в своем творчестве проблемы глубоко национальные, однако близкие и другим народам. Конфликт материального и духовного, столь очевидный в новозеландском обществе 1890—1920-х годов, возможно, даже главенствующий для этого времени, определил и направление психологических, эстетических, социальных поисков Кэтрин Мэнсфилд.
В 1906 году Мэнсфилд, закончив учебу, возвращается из Англии в Новую Зеландию, где живет в Веллингтоне и с неослабевающим энтузиазмом работает над рассказами. Два или три из них ей даже удается напечатать в австралийской прессе. Она упорно ищет способ для выражения своего миропонимания. Юная англоновозеландка ведет дневник и, сохранив эту привычку на всю жизнь, даст будущим исследователям богатейший материал для изучения истоков своего творчества. С самого начала, с самых первых записей, имеющих не только биографическое значение, Кэтрин Мэнсфилд, в сущности, указывает на две интересующие ее области — общество и психологию, или, скорее, социальную психологию. Богатство и бедность, добро и зло, отчуждение людей, память и забвение, война и мир — эти проблемы проникают в творчество Мэнсфилд, отражая в нем не только «вечные вопросы» творческой личности, но и реальную атмосферу жизни классового общества определенной эпохи.
В английской прозе начала века (и непосредственно английской, и колониальной) царил роман. Однако Мэнсфилд отдает предпочтение рассказу, причем не просто рассказу, который в английской литературе мог быть достаточно длинен (рассказ, новелла, повесть), а именно короткому рассказу. По всей видимости, это произошло не без влияния А. П. Чехова, произведения которого были ей близки и дороги. Вероятно, не без помощи Чехова она открыла для себя выход из маленького, замкнутого мира одного человека в огромный мир, где было много несправедливости, и ей стало нужно, чтоб он очистился, чтоб из него исчезло все, делающее несчастливым каждого человека.
Самый первый, как принято считать, зрелый рассказ «Усталость Розабел» хоть и имеет, на наш взгляд, достаточно много общего со «счастливыми» рассказами О’Генри, в целом Мэнсфилд решен по-своему. О’Генри, как правило, использует случай, чтобы выявить главное в характере человека, и в лучших его рассказах случай является выражением жизненной закономерности, определяемой натурой человека. Но, по справедливому замечанию А. А. Аникста, закономерность индивидуального далеко не всегда совпадала у О’Генри с закономерностью социальной. Эпизод в магазине и сон Розабел написаны в духе О’Генри, и остается еще совсем немного, чтобы получился чуть грустный, чуть ироничный и явно утешительный рассказ. Но тут-то и проявляется влияние «жестокого материалиста» Чехова. Нет ни сказочного принца, ни случайно найденного кошелька. Есть сегодня, похожее на вчера, и завтра — на сегодня, и неизвестно, надолго ли хватит у Розабел сил, сумеет ли она сохранить надежду — единственное богатство, пока еще не отнятое у нее жестоким миром. «Ночь прошла, — заканчивает рассказ Мэнсфилд. — Холодные пальцы рассвета сомкнулись на ее непокрытой руке, серый день проник в унылую комнату. Розабел поежилась, не то всхлипнула, не то вздохнула и села. И оттого, что в наследство ей достался тот трагический оптимизм, который слишком часто оказывается единственным достоянием юности, еще не совсем проснувшись, она улыбнулась чуть дрогнувшими губами».
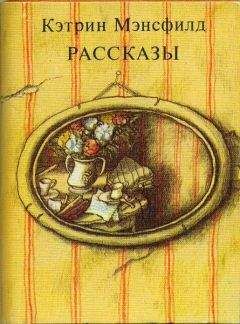




![Кэтрин Мэнсфилд - Короткая лесбийская проза [cборник]](https://cdn.my-library.info/books/113422/113422.jpg)