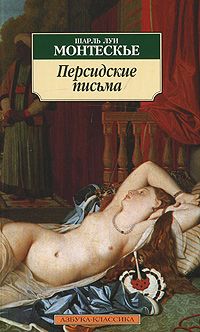Из Парижа, месяца Шальвала{242} 2-го дня, 1712 года.
ПИСЬМО XXIX. Рика к Иббену в Смирну
Папа - глава христиан. Это старый идол, которому кадят по привычке. Когда-то его боялись даже государи, потому что он смещал их с такой же легкостью, с какой наши великолепные султаны смещают царей Имеретии и Грузии{242}. Но теперь его уже больше не боятся. Он называет себя преемником одного из первых христиан, которого зовут апостолом Петром, и это несомненно - богатое наследие, так как под владычеством папы находится большая страна и огромные сокровища.
Епископы - это законники, подчиненные папе и выполняющие под его началом две весьма различные обязанности. Когда они находятся в сборе, то, подобно папе, составляют догматы веры; а у каждого из них в отдельности нет другого дела, как только разрешать верующим нарушать эти догматы. Надо тебе сказать, что христианская религия изобилует очень трудными обрядами, и так как люди рассудили, что менее приятно исполнять обязанности, чем иметь епископов, которые освобождают от этих обязанностей, то ради общественной пользы и приняли соответствующее решение. Поэтому, если кто-нибудь не хочет справлять рамазан, подчиняться определенным формальностям при заключении брака, желает нарушить данные обеты, жениться вопреки запрету закона, а иногда даже преступить клятву, то он обращается к епископу или к папе, которые тотчас же дают разрешение.
Епископы не сочиняют догматов веры по собственному побуждению. Существует бесчисленное количество ученых, большею частью дервишей, которые поднимают в своей среде тысячи новых вопросов касательно религии; им предоставляют долго спорить, и распря продолжается до тех пор, пока не будет принято решение, которое положит ей конец.
Поэтому могу тебя уверить, что никогда не было царства, в котором происходило бы столько междуусобиц, как в царстве Христа.
Тех, которые выносят на свет божий какое-нибудь новое предложение, сначала называют еретиками. Каждая ересь имеет свое имя, которое является как бы объединяющим словом для ее сторонников. Но кто не хочет, тот может и не считаться еретиком: для этого человеку нужно только придерживаться инакомыслия лишь наполовину и установить различие между собою и теми, кого обвиняют в ереси; каким бы это различие ни было - вразумительным или невразумительным - его достаточно, чтобы обелить человека и чтобы отныне он мог называться правоверным.
То, о чем я тебе рассказываю, относится к Франции и Германии, а в Испании и Португалии, говорят, есть такие дервиши, которые совершенно не разумеют шуток и жгут людей, как солому. Когда кто-нибудь попадает в их руки, то счастлив он, если всегда молился богу с маленькими деревянными зернышками{243} в руках, носил на себе два куска сукна, пришитых к двум лентам{243}, и побывал в провинции, называемой Галисией{243}! Без этого бедняге придется туго. Как бы он ни клялся в своем правоверии, его клятвам не поверят и сожгут его как еретика; как бы он ни доказывал свое отличие от еретика, - никаких отличий! Он превратится в пепел раньше, чем кто-нибудь подумает его выслушать.
Иные судьи заранее предполагают невинность обвиняемого, эти же всегда заранее считают его виновным. В случае сомнения они непременно склоняются к строгости, - очевидно потому, что считают людей дурными. Но, с другой стороны, они такого хорошего мнения о людях, что не считают их способными лгать, ибо придают значение свидетельским показаниям смертельных врагов обвиняемого, женщин дурного поведения, людей, занимающихся скверным ремеслом. В своих приговорах они обращаются со словами ласки к людям, одетым в рубашку, пропитанную серой{243}, и заверяют, что им очень досадно видеть приговоренных в такой плохой одежде, что они по природе кротки, страшатся крови и в отчаянии от того, что осудили их; а чтобы утешиться, они отчуждают в свою пользу все имущество этих несчастных.
Благословенна страна, обитаемая детьми пророков! Такие прискорбные зрелища там неведомы*. Святая вера, которую принесли в нее ангелы, защищается собственной своею истинностью: ей нет нужды в насилии, чтобы процветать.
______________
* Персияне - самые терпимые из всех магометан.
Из Парижа, месяца Шальвала 4-го дня, 1712 года
ПИСЬМО XXX. Рика к нему же в Смирну
Жители Парижа любопытны до крайности. Когда я приехал, на меня смотрели, словно на посланца небес: старики, мужчины, женщины, дети - все хотели меня видеть. Когда я выходил из дому, люди бросались к окнам; если я гулял в Тюильри, около меня тотчас же собиралась толпа: женщины окружали меня, как радуга, переливающая тысячью цветов. Когда я посещал спектакль, на меня направлялись сотни лорнетов; словом, никогда так не рассматривали человека, как меня. Порою я улыбался, слыша, что люди, почти не выходившие из своей комнаты, говорили обо мне: "Спору нет, у него совсем персидский вид". Удивительное дело: всюду мне попадались мои портреты; я видел свои изображения во всех лавочках, на всех каминах - люди не могли наглядеться на меня.
От стольких почестей становится, наконец, не по себе; я и не подозревал, что я такой интересный и редкостный человек, и, хотя я о себе и очень хорошего мнения, все же я никогда не воображал, что мне придется смутить покой большого города, где я никому не известен. Это понудило меня снять персидское платье и облачиться в европейское, чтобы проверить, останется ли после этого еще что-нибудь замечательное в моей физиономии. Этот опыт дал мне возможность узнать, чего я стою на самом деле. Освободившись от иностранных прикрас, я был оценен самым правильным образом. Я мог бы пожаловаться на портного: он в одно мгновение отнял у меня всеобщее внимание и уважение, ибо я вдруг превратился в ужасное ничтожество. Иногда я целый час сижу в обществе, и никто на меня не смотрит и не дает мне повода раскрыть рот, но стоит кому-нибудь случайно сообщить компании, что я персиянин, как сейчас же подле меня начинается жужжание: "Ах! ах! Этот господин - персиянин? Вот необычайная редкость! Неужели можно быть персиянином?"
Из Парижа, месяца Шальвала 6-го дня, 1712 года
ПИСЬМО XXXI. Реди к Узбеку в Париж
Я нахожусь сейчас в Венеции, дорогой Узбек. Можно перевидать все города на свете и все-таки прийти в изумление, приехав в Венецию: этот город, его башни и мечети, выходящие из воды, всегда будут вызывать восторг, и всегда будешь диву даваться, что в таком месте, где должны были бы водиться одни рыбы, живет так много народу.
Но этот нечестивый город лишен драгоценнейшего сокровища в мире, а именно проточной воды: в нем невозможно совершить ни одного установленного законом омовения. Он вызывает отвращение у нашего святого пророка, с гневом взирающего на него с высоты небес.
Если бы не это, дорогой Узбек, я был бы восхищен жизнью в городе, где мой ум развивается с каждым днем. Я осведомляюсь о торговых тайнах, об интересах государей, о форме их правления; я не пренебрегаю даже европейскими суевериями; обучаюсь медицине, физике, астрономии; изучаю искусства; словом, выхожу из тумана, который заволакивал мне взор в моей отчизне.
Из Венеции, месяца Шальвала 16-го дня, 1712 года
ПИСЬМО XXXII. Рика к ***
Как-то раз я пошел посмотреть некий дом, в котором довольно плохо содержится около трехсот человек{245}. Я скоро окончил осмотр, ибо церковь и другие здания не заслуживают особого внимания. Обитатели этого дома были довольно веселы; многие из них играли в карты или в другие, неизвестные мне игры. Когда я выходил, вместе со мною вышел один из этих людей; слыша, что я спрашиваю, как пройти в Марэ, самый отдаленный квартал Парижа, он сказал мне: "Я иду туда и провожу вас; следуйте за мною". Он отлично довел меня, выручил из всех затруднений и ловко оберег от повозок и карет. Мы почти уже дошли, когда мной овладело любопытство. "Добрый друг, - сказал я ему, - не могу ли я узнать, кто вы?" - "Я слепой, сударь", - ответил он. "Как! говорю я. - Вы слепой?! Почему же вы не попросили почтенного человека, игравшего с вами в карты, проводить нас?" - "Он тоже слепой; вот уже четыреста лет, как в том доме, где вы меня встретили, живет триста слепых. Но мне пора расстаться с вами; вот улица, которую вы спрашивали, а я вмешаюсь в толпу и войду в эту церковь, где, уверяю вас, доставлю людям куда больше беспокойства, чем они мне".
Из Парижа, месяца Шальвала 17-го дня, 1712 года
ПИСЬМО XXXIII. Узбек к Реди в Венецию
В Париже вино благодаря пошлинам, которыми оно обложено, так дорого, словно здесь решили следовать предписаниям священного Алкорана, запрещающего его пить.
Когда я думаю о пагубных последствиях этого напитка, я не могу не считать его самым страшным даром, который природа сделала людям. Ничто так не запятнало жизнь и добрую славу наших монархов, как невоздержность: она самый ядовитый источник их несправедливостей и жестокостей.
Скажу к человеческому стыду: закон запрещает нашим государям употребление вина, а они пьют его в таком излишестве, что теряют человеческий облик. Наоборот, христианским государям пить вино дозволяется, и незаметно, чтобы это побуждало их делать что-либо неподобающее. Человеческий дух - само противоречие. На разгульных пирах люди с бешенством восстают против всяких предписаний, а закон, созданный для того, чтобы сделать нас праведными, часто только усугубляет наши пороки.