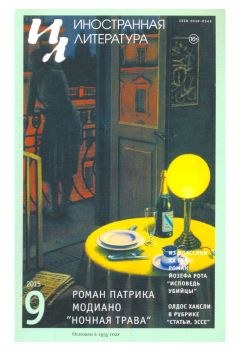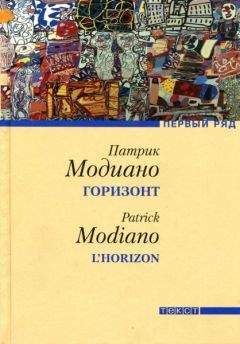Каждый вечер я знал, что где-то в двадцать один час сорок пять минут она скажет со сцены в зрительный зал:
«Как мало мы значили в жизни этого человека…»
И когда я пишу эту фразу теперь, полвека спустя — а то и век, я разучился считать годы, — чувство пустоты оставляет меня на какой-то миг. Такси ровно в восемь вечера, страх не успеть к занавесу, куртка на меху, потому что зима и снег, привычные, повседневные жесты, теперь забытые насовсем, пьеса, которую больше никто никогда не увидит, давно стихшие овации и смех, и сам театр, разрушенный уже давно… «Как мало мы значили в жизни этого человека…» В понедельник, когда она отдыхала, в ее окне вечерами тоже горел свет, и это меня успокаивало. В прочие дни я оставался один во всем доме. Порой у меня было чувство, что я теряю память и уже не понимаю, что здесь делаю. Пока не приходила Данни.
С ней мы гуляли по улицам, где прошло мое детство, по тем районам, которые сам я тогда обходил стороной из-за тягостных воспоминаний, — теперь же они не вызывают во мне никаких чувств, до того все в них переменилось. Мы прошли отель «Руаяль Сен-Жермен» и оказались у дверей гостиницы «Таранн». Я увидел, как из гостиницы вышел тот самый писатель, которым я тогда восхищался и у которого одно из стихотворений называлось «Данни». Кто-то за нашими спинами крикнул: Жак!.. — и он обернулся. Он удивленно посмотрел на меня, решив, что это я окликнул его по имени. Мне хотелось воспользоваться случаем, пойти ему навстречу и пожать руку. Я бы спросил его тогда, почему он назвал стихотворение «Данни», — может, он тоже знал девушку с таким именем. Но я не осмелился. Наконец другой мужчина подошел к нему, еще раз назвав его Жак… — и тогда он понял ошибку. Мне даже показалось, что он улыбнулся мне. Вдвоем они пошли перед нами вдоль бульвара, в сторону Сены.
— Ты должен пойти поздороваться с ним, — сказала мне Данни. Она даже предложила заговорить первой, вместо меня, но я ее удержал. Да и было уже поздно — они свернули налево, на бульвар Распай. Мы сделали крюк и снова вышли к гостинице «Таранн».
— Почему ты не напишешь ему письмо, не назначишь встречу? — спросила меня Данни.
Нет уж. В следующий раз я поборю свою скромность, подойду и пожму ему руку. Но — увы — я больше ни разу не видел его, а много лет спустя к тому же узнал от одного из его друзей, что, когда кто-то жал ему руку, он смотрел со скучающим видом и говорил: «Снова пять пальцев?». Да, порой жизнь монотонна и банальна, как сейчас, когда я пишу эти строки, стараясь найти бреши во времени, чтоб сбежать через них. Мы сидели вдвоем на скамейке, на аллее бульвара, между воротами гостиницы «Таранн» и стоянкой такси. Через год я узнаю, что на этом самом месте, прямо на тротуаре перед нами было совершено преступление. Марокканского политического деятеля посадили в машину — будто бы полицейскую — и увезли, сначала это проходило как похищение, затем как преступление. И имя Жоржа, так часто бывавшего в холле отеля «Юник», мелькало на страницах газет в качестве имени одного из действующих лиц, так что я ждал появления там же Поля Шастанье, Дювельца, Жерара Марсиано и Агхамури — я бы очень хотел узнать его мнение по поводу всего этого. Но мне было страшно, и я вспоминал, что он сказал мне тогда, в кафе у театра «Лютеция»: «Мы вроде зачумленных… Общаясь с нами, вы рискуете подхватить чуму…» Как-то раз, днем, я забрел далеко на запад, к самому Отёй, и зашел в телефонную будку. Расстояние придало мне смелости. Казалось, что отель «Юник» где-то в другом городе. Я набрал номер марокканского корпуса, который Агхамури дал мне еще при первой нашей встрече, вместе с Данни, — я записал его в блокнот: POR 58–17. Едва ли он все еще живет в той комнате. Я слышал, как глухо звучит мой собственный голос:
— Могу я поговорить с Гхали Агхамури?
На том конце молчали. Я чуть было не бросил трубку. У меня вдруг закружилась голова, как бывает с тем, кто хочет спрятаться, но вместо этого вдруг бежит навстречу опасности.
— А кто его спрашивает?
Вопрос был задан сухим тоном полицейского инспектора.
— Друг.
— Я спросил ваше имя, мсье.
Я чуть не поддался нахлынувшей слабости: сказать ему мое имя, фамилию, адрес… Я вовремя удержался.
— Тристан Корбьер.
Молчание. Должно быть, он записал.
— И зачем вам нужно говорить с Гхали Агхамури?
— Потому что я хочу поговорить с ним.
Я тоже взял твердый тон. Гораздо тверже его.
— Гхали Агхамури больше не живет в марокканском корпусе. Вы слышите меня, мсье? Вы слышите?
Теперь уже я молчал в трубку. И я почувствовал, как мой собеседник на том конце забеспокоился и даже встревожился из-за моего молчания. Я повесил трубку. Впоследствии я часто проходил мимо отеля «Руаяль Сен-Жермен» и гостиницы «Таранн», но ни того ни другого уже не было, будто кто-то нарочно старался убрать обстановку, в которой совершалось преступление, чтобы о нем забыли. Когда я шел там на прошлой неделе, то не было даже скамейки напротив стоянки такси, где мы с Данни сидели в тот вечер.
— Это глупо… Я могла прямо сейчас подойти и сказать ему, что меня зовут Данни, как его стихотворение.
Она рассмеялась. Судя по тому, что я читал у него, да и по его добродушному виду, он бы, конечно, уделил нам пару минут. Иногда, шагая по улице один, я читал вслух его строки:
Когда умру, пускай моя вдова
Придет в Жавель, что близ пивной Ситрон…
Церковь Святого Христофора в Жавель. Мы только что вернулись из того района, я, как всегда, ходил с Данни на почту. Всю дорогу я хотел рассказать ей о том, что мне говорил Агхамури, про упомянутую им «грязную историю», которая как-то должна касаться Данни, но я никак не мог подыскать нужных слов, а вернее, правильного тона, чтоб это звучало легко, почти в шутку, и не вспугнуло ее… Я боялся, что она «соскочит», как говорят в определенных кругах: вроде того, что собирается в отеле «Юник», — и потому в воздухе висела неловкость.
Мы уже дошли до поворота на улицу Ренн, ведущую прямо на Монпарнас. Но на самом пороге этой длинной печальной улицы, раздвинутой, как подзорная труба, до самого горизонта — черноватая громада Монпарнасской башни в ту пору еще не омрачала ее, — я на минуту замялся. Я спросил ее, так ли ей непременно нужно вернуться в отель «Юник».
— Нужно увидеться с Агхамури, — сказала она, — он должен передать мне кое-какие документы.
Вот и момент, чтобы наконец расставить все по местам. Еще пару секунд я медлил, а потом:
— А что за документы? На имя Мишель Агхамури?
Она глядела на меня, точно окаменев, стоя недвижно на тротуаре, напротив того места, где сейчас магазин «Монопри», а тогда был заброшенный парк, служивший прибежищем для сотен бездомных кошек.
— Это он тебе сказал?
— Да.
Лицо ее стало твердым, и я подумал об Агхамури. Если бы он стоял сейчас здесь, она задала бы ему трепку. Но потом она пожала плечами и заговорила, уже равнодушно:
— Да, это может показаться странным, но вообще все совершенно естественно… Мишель одолжила мне свой студенческий… Я потеряла все документы, а новые просто так не сделать, нужно сперва столько всяких формальностей пройти, чтоб получить свидетельство о рождении… Я же родилась в Касабланке…
Что это, совпадение? И она тоже связана с Марокко.
— Он еще объяснил мне, что кто-то сделал тебе фальшивые документы.
Я сказал «кто-то», потому что не знал, как по-настоящему зовут того человека с лунным лицом, которого все называли Жорж, и было непонятно, то ли это имя, то ли кличка, а может и вовсе фамилия.
— Да нет же, никакие они не фальшивые… Ты имеешь в виду Рошара? Того, который часто в холле сидит?
— Я про того, которого все зовут Жорж…
— Да, это он же, — сказала она, — Рошар… Он часто ездит в Марокко… У него гостиница в Касабланке… Ну и так как я там родилась, он смог мне оформить временные документы… Пока я не получу обычные…
Мы не пошли по улице Ренн. Может, и ей самой эта хмурая улица и перспектива вернуться в отель «Юник» внушали недоброе предчувствие.
Мы пошли в сторону Сены.
— Агхамури сказал, что тебе нужны были фальшивые документы, потому что ты оказалась втянута в грязную историю…
Мы теперь шли мимо школы изящных искусств. Ученики толпились на тротуаре. Они что-то праздновали. Некоторые были с музыкальными инструментами в руках, другие — в костюмах: мушкетеров, каторжников или просто с обнаженным торсом, изрисованным разными красками. На манер индейцев.
— Он так и сказал: «в грязную историю»?
Она смотрела на меня, нахмурив брови. Казалось, она не понимает. Студенты вокруг нас заиграли на инструментах, что-то выкрикивали… Я пожалел о словах, которые произнес: фальшивые документы, грязная история. А ведь мы могли бы быть совсем как эти славные ребята, которые обступили нас и не давали прохода. Они зазывали нас на свой бал, этой ночью. Бал Четырех Искусств. Мы с трудом пробрались сквозь толпу, и их крики и музыка постепенно затихли где-то позади.