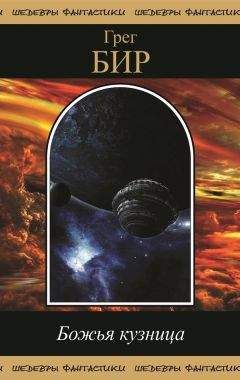укрепленных пунктов в Сирии и Ливане. Работа была интересная, и платили хорошо. «Если хочешь, — сказал он, — обратись в контору компании. Тель-Авив, улица Нахлат Беньямин».
Между тем, подошел срок нашего первого отпуска. Кончился очередной рабочий день, и мы все отправились на маленькую пустынную железнодорожную станцию Рафиаха. Поезд здорово опаздывал. Он прибыл уже в сумерках. Мы вошли в темный и тесный вагон, и паровозик потащил нас на север. В Лоде — «великолепном Лоде», как его тогда называли — пришлось сделать пересадку. Только в полночь мы прибыли в Тель-Авив. Наутро я отправился на улицу Нахлат-Беньямин, в контору компании «Пельрод». Вакантное место действительно нашлось — в Эмек-Айон в Ливанской долине требовался прораб на один из объектов. Зарплата 25 лир в месяц плюс питание, да к тому же еще верховая лошадь — для разъездов по делам службы. 1 июня я должен был прибыть в Джадиду и приступить к работе. Я тут же согласился.
На следующий день утренним поездом я выехал обратно в Рафиах и через несколько часов предстал перед начальством. Я сообщил дежурному сержанту о своем «горячем желании служить Его Величеству», он расплылся в улыбке, приятным голосом выразил свою одобрение и быстренько оформил мне нужную бумагу. Потом он пожелал мне успеха и удачи на военном поприще.
Не заезжая домой, я отправился на север, в Метулу. Оттуда меня на машине отвезли в Ливан, и через двадцать минут я уже был в Джадиде, в «еврейском поселке», где жили служащие «Пельрода» — инженеры, топографы, шоферы, бухгалтеры, кассиры, прорабы, дорожные рабочие и строители. Здесь возводились укрепления — на тот случай, если войскам союзников придется обороняться от наступающей с юга германской армии.
Я провел в Эмек-Айон несколько замечательных месяцев. От окружавшей нас красоты захватывало дыхание, я постоянно ездил с места на место, общался с самыми разными людьми. Обычаи и образ жизни коренного населения представляли собой пеструю смесь первобытности и современности. Мои товарищи по работе были люди молодые и веселые, отмеченные той особой печатью избранности, которая отличала тогда палестинскую молодежь.
И все же, летом 42 года я все бросил, распрощался со всеми и вернулся в Метулу. Положение в Египте было трагическим. Англичане непрерывно отступали, преследуемые танковыми частями Роммеля. Мы ежедневно получали газеты, и, читая их, я убеждался, что немцы вот-вот будут в Палестине. А тогда не миновать мне британской армии — я не видел другой возможности защищать страну.
На террасе гостиницы «Снега Ливана» меня ждал отец. Я написал ему о своих намерениях, и теперь он уговаривал меня повременить еще хоть немного с вступлением в армию. Вокруг нас на каких-то жалких обшарпанных чемоданах сидели семьи польских евреев, тех, кому удалось спастись от немцев. Измученные, раздавленные свалившимися на них несчастьями, они явно не собирались оставаться здесь, в Метуле, а дожидались в этом пограничном городке возможности перебраться в Иран или Индию, где их не сможет настичь Гитлер.
На следующий день пасмурным сырым утром (в самый разгар лета капал дождь) мы выехали в Тель-Авив.
В Тель-Авиве я сразу же отправился к Даниэлю. Я нашел его лежащим в постели, что, впрочем, не мешало ему заниматься какими-то важными делами. Как выяснилось, в то время развернулась широкая кампания по организации интеллигентной молодежи (избежавшей призыва в британскую армию) во всевозможные кружки под громкими названиями — «Мощь», «Вознесенные», «Сноп» и тому подобное. Насколько я понял, в этих кружках обсуждали в основном, каким образом и какими средствами служить народу. Но в тот раз, я помню, меня гораздо больше заинтересовал рассказ Даниэля об одном молодом скульптуре из выпускников нашей гимназии. Звали его Беньямин, а фамилию он успел переменить с тех пор, как я его знал, и назывался теперь Тамуз. Даниэль отзывался о нем, как об очень интересном и перспективном скульпторе. Тамуз принадлежал к весьма оригинальному идейному течению, идеологом которого был некто Уриэль Шелах.
С помощью Даниэля я встретился с Беньямином Тамузом и тотчас же был им очарован. Тамуз дал мне почитать верстку сборника произведений этого самого Шелаха. Начав читать, я уже не в силах был оторваться. Тут было все — мучившие нас проблемы (английская оккупация, взаимоотношения с арабами, наши внутренние трения, точный и яркий исторический анализ сложившейся ситуации и горячая вера в нашу избранность и призванность. Шелах утверждал, что в стране создается новая нация (первыми представителями которой мы и являемся) и новое общество, светское и открытое. Создание такой нации предполагает возрождение древнего еврейского народа и классической культуры. Но такое возрождение невозможно без отказа от всего наследия диаспоры и от всяких попыток отождествить себя с ней. Наибольшим внутренним препятствием на пути сплочения новой нации, по мнению Шелаха, является связанный с диаспорой сионизм, который будет постоянно тормозить развитие нового ивритского государства, если оно возникнет в наши дни.
Читая эти страницы (вряд ли хоть один экземпляр рукописи сохранился), я чувствовал, что приобщаюсь к великому откровению. Статьи Шелаха были для меня, как вспышка молнии, внезапно высветившая все пропасти и все вершины, открывшая передо мной такие горизонты, о существовании которых я и не предполагал. Я получил ответ на все вопросы, так долго мучившие мою душу и разум.
Я попросил у Беньямина, чтобы он дал мне почитать еще что-нибудь, написанное Шелахом. Некоторое время спустя он предложил мне книжечку стихов «Черный балдахин», выпущенную издательством «Литературные тетради». Автором сборника был некий Йонатан Ратош. Я удивился, но Беньямин объяснил мне, что это литературный псевдоним Шелаха. Выйдя от Беньямина и оказавшись на улице Монтефиоре, среди суеты душного, влажного тель-авивского полдня, я раскрыл сборник и на ходу принялся читать. Каждое стихотворение показалось мне драгоценным камнем, любовно отшлифованным и сверкающим всеми своими гранями. Иногда я останавливался и, как зачарованный, прислушивался к собственным ощущениям. Стихи пьянили, как старое вино. Я снова и снова перебирал листы тетради, не смея поверить, что вся эта красота, вся эта мощь действительно здесь, передо мной, в этих, таких обыкновенных, строках.
Через несколько дней, субботним вечером, в «орлином гнезде» Даниэля, состоялась моя первая встреча с Уриэлем. Ему было тогда тридцать четыре года. Он вошел, худощавый и подтянутый, в легком черном костюме, снял с бритой головы пробковый шлем цвета хаки и сел к столу. Даниэль вышел, оставив нас наедине. Четыре часа, с восьми вечера до полуночи, мы беседовали при резком свете голой электрической лампы. За окном стояла черная, душная летняя ночь. Так