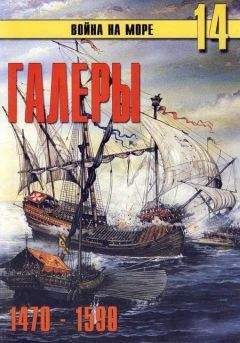Ревекка спела прекрасную песнь Соломона с неподражаемой силой, не как актриса, а как любящая женщина. Ее страстная натура вполне сказалась в этой песне: все влечения ее сердца, все упоения страсти вылились из ее уст. Когда она закончила, восторгу слушателей не было предела.
По сигналу, поданному Титом и Береникой, зала огласилась рукоплесканиями.
Береника пожелала поздравить Ревекку с громадным успехом, который та имела накануне, и после обеда отправилась к ней. Между царевной и Титом возник небольшой спор по поводу Ревекки. Речь шла о том, сказался ли голос сердца в сделанном Ревеккой выборе из «Песни Песней» Соломона, и в голосе, в искренне-страстном тоне, которым она пропела свою песнь, не руководила ли в данном случае женщина артисткой. Тит утверждал, что, как в первой из пропетых песен, так и во второй, в Ревекке сказалась только артистка; Береника же утверждала обратное. «Если песнь Деборы, – говорила она, – можно пропеть без участия сердца, то того нельзя сказать относительно песни Суламифи. Только любящая женщина может пропеть ее так, как пропела Ревекка. Впрочем, я выясню это. Я дружна с Ревеккой и сумею выведать у нее эту тайну».
Ревекка жила в отдельном доме, расположенном в громадном саду. Она лежала на широких мягких коврах, когда к ней вошла царевна. Она была бледна и лицо ее носило на себе следы утомления. При появлении царевны Ревекка поднялась с лихорадочной поспешностью, вовсе ей не свойственной. Береника обратила внимание и на это. Береника воскликнула с непритворным участием, схватив горячие руки девушки:
– Ты плохо чувствуешь себя, дитя мое; удовольствие, которое ты нам доставила, все же не мешает мне сожалеть о том, что я вчера упросила тебя петь. Ты бледна, как мертвец… нет, что я говорю, это сравнение не пристало к тебе… ты бледна, как белая лилия в Кедронской долине, только что смоченная дождем.
– Я вчера немного взволновалась, – ответила Ревекка, улыбаясь, – если дождь, как ты так благосклонно выразилась, смочил лилию, то он не промочил ее насквозь; но если бы даже он совсем прибил ее к земле, то живительные лучи твоих похвал не замедлили бы заставить ее подняться. Мне даже кажется, что скорее на меня подействовала снисходительность твоя и Тита, чем усталость. Эхо ваших рукоплесканий всю ночь отзывалось в ушах моих; сладкий голос, прекрасная царевна, беспрерывно звучал в них, и он-то и не давал мне сомкнуть глаз.
– Я буду очень рада, если это так, и мне доставляет удовольствие это твое объяснение. Только совершенно напрасно ты употребила это слово снисходительность: рукоплесканиями нашими руководила справедливость. Ты пела так, как может петь только муза Аттики или восхваляемый поэтами соловей; а что касается пляски твоей, то самые знаменитые танцовщицы Индии и Египта недостойны развязать ремень у сандалий твоих. Если бы Соломон мог воскреснуть, то он, наверное, распростерся бы у ног твоих: ты еще более украсила его и без того уже прекрасную любовную песнь, и прибавила новый цветок к его благоухающему букету.
Ревекка покраснела, выслушивая эти похвалы, но ничего не ответила. Ей не нравился льстивый тон, царствовавший при дворе Береники. Береника перешла к главной цели своего посещения.
– Я заставила тебя покраснеть, – сказала она с сожалением, – я знаю, что ты любишь более укоры, чем похвалы. Знаешь ли ты, Ревекка, что ты в этом отношении совершенно не похожа на других людей.
– Нет, я этого не знала, – смеясь, ответила Ревекка, – и, быть может, ты и права; но совершенно верно то, что я до того не люблю похвал, что иной действительно может, пожалуй, подумать, будто мне больше нравятся упреки. Для тебя я, однако, делаю исключение: с твоей стороны мне все нравится, как похвалы, так и упреки.
– Ну и отлично! Это дает мне возможность не стесняться; ибо я должна сделать тебе упрек, мой прекрасный и скрытный друг.
– Упрек? Неужели! Клянусь Юпитером, – как имеет обыкновение говорить отец мой, с тех пор как он отрекся от своей веры, – тем лучше; я предпочитаю уксус меду, но так как преступление это не предумышленное, то оно, без сомнения, будет вскоре прощено мне.
– Не предумышленное? Да нет же, ведь у тебя есть тайны, а ты заставляешь меня отгадывать их.
– У кого нет своих тайн? – сказала Ревекка. – Сердце женщины, как сказал один из наших пророков, есть не что иное, как темная бездна.
– Значит, ты сознаешься и все же утверждаешь, что ты не виновата?
Ревекка, не понимая, к чему клонит царевна, невольно почувствовала некоторое беспокойство, несмотря на то, что тон, которым говорила Береника, и выражение лица ее не имели в себе ничего тревожного. Однако она старалась овладеть собой и только легкая краска покрыла ее щеки.
– Ну что, ты сдаешься наконец! И прекрасно! Это примиряет меня с тобой. Да, моя прекрасная Муза, мне известно, какой гений вдохновляет тебя. И с чего бы тебе отрекаться от этого? У нас, женщин, талант является не из головы, а из сердца, и от этого он не становится меньшим; человек нисколько не теряет в цене, оттого, что прошел через это горнило. Да, вчера вечером ты выдала себя: в твоем сердце живут две страсти. Я спешу заявить тебе, что я извиняю одну из них ради другой. Одна из них пройдет, ибо другая пожрет ее, как огонь пожирает солому; это повторение все той же притчи Иосифа о семи худых и семи тучных коровах. Но если ты желаешь, чтобы прощение было полное, то и признание должно быть полное. Ты любишь, ибо только одна любовь способна произвести то чудо, которое ты произвела вчера вечером.
Ревекка опустила глаза, как стыдливая молодая девушка, тайну которой разгадали, и не произнесла ни слова. Береника, радуясь своей догадливости, продолжала, смеясь:
– Я отлично знала, что я права; мужчины ничего не понимают в подобного рода вещах. Они видят только канат и не видят тонкой нитки, и поэтому-то так часто и ошибаются. Что бы ни говорил Тит, несомненно, что нужно любить, для того чтобы петь так, как ты пела вчера; есть такие чудеса, которых не может сотворить никакой талант без содействия сердца. Многое недоступно женщине, если в дело не вмешается любовь к мужчине.
Ревекка чувствовала по голосу царевны, по ее веселости и игривости, что она может быть спокойна за свою тайну. Однако, желая доиграть роль свою до конца, она, краснея, продолжала держать глаза опущенными.
– Зачем же краснеть, Ревекка, и опускать глаза? Ты любишь! Что ж в этом дурного? Мы ведь и живем-то, собственно, для того, чтобы любить. Если Господь Бог насадил дерево познания в земном раю, то сделал это, конечно, для того, чтобы наши руки срывали с него плод и подносили его мужчинам. Не далее, как вчера, это нам объяснила в своей песне Мария Рамо, и она была права.
Я даже думала бы о тебе дурно, если бы ты в состоянии была вечно лежать под сенью сочного дерева и никогда не испытывала бы искушения протянуть к нему руку. Нет, ты любишь, я в том уверена, в этих вещах я никогда не ошибаюсь. К чему же скрывать это от меня? Ведь я люблю тебя, и к тому же я могу оказаться полезной. Ведь должны же мы помогать друг другу. Поэтому ты должна во всем сознаться мне, и сознаться с полной откровенностью; только полнейшая искренность может изгладить вину, которую ты совершила относительно меня своей скрытностью. И, для того чтобы начать с самого начала, ты назовешь мне имя жениха твоей Суламифи.
Вопрос этот не только смутил Ревекку, но и был для нее настоящей пыткой. Она не могла сказать царевне, что та ошибается, так как этим только совершенно обидела бы ее, в то же время не убедив ее, и лишилась бы доверия, которое с таким трудом успела приобрести. Но она могла назвать имя того, кого любила, так как имя Симона бен Гиоры на всех наводило ужас, и царевна, без сомнения, испугалась бы, услышав его.
Береника была женщина слишком проницательная, для того чтобы не заметить ее смущения; но она приписала ее девической робости.
– Ты молчишь! Вот что значит иметь всего двадцать лет от роду и быть знакомой с земным раем только по Моисеевым книгам! Итак, мне приходится отгадывать! Хорошо, попробуем. Максим Галл, моя прекрасная притворщица, не менее притворщик, чем ты, но он не так хитер. Эти люди, посвятившие себя войне, сильны только на поле битвы, а этот еще воображает себя политиком! В то время, когда ты пела, я заметила, как смотрел на тебя Максим Галл. Для меня сразу же стало ясно, что он любит тебя; я готова биться об этом об заклад любовью Тита против вифлеемской винной ягоды. Не он ли нашел тот путь, который ведет к виноградникам Суламифи?
Положение Ревекки становилось все более и более затруднительным: разубеждать Беренику было небезопасно; сказать, что она любит Галла, было для нее противно, и в то же время она не могла рисковать делом, которому служила.
– Любовь, как и дух, – сказала она со стыдливой улыбкой, – дует всюду, куда захочет. Люблю ли я Галла? Право, я сама не знаю этого. Но одно я могу сказать определенно – это то, что я вполне признаю его заслуги и что я не могла бы остаться равнодушной к чувству которое испытывал бы ко мне такой человек, если только он действительно испытывал бы его.