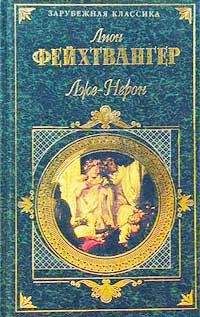В воскресные послеобеденные часы в "Тирольском погребке" собирались преимущественно политические деятели. Они сидели здесь в черных праздничных сюртуках, развязные и самоуверенные. Бавария была автономным государством, и быть баварским политиком - кое-чего да стоило!
Если в то время Европа состояла из многочисленных суверенных государств, одним из которых являлась Германия, то Германия в свою очередь распадалась на восемнадцать союзных государств. Эти страны, и в том числе Бавария, несмотря на то что в силу своей хозяйственной структуры давно уже превратились в провинции, ревниво охраняли свою обособленность. У них были свои традиции, свои "исторические чувства", свои "племенные особенности", свои кабинеты министров. Восемьдесят министров, две тысячи триста шестьдесят пять парламентариев правили Германией. Носители громких титулов, заседавшие в этих союзных правительствах, все эти президенты, министры, депутаты ландтагов не желали исчезнуть с политической арены или в лучшем случае превратиться в провинциальных чиновников. Они не желали признать, что их "государства" давно выродились в провинции. Они всеми силами противились этому, ораторствовали, властвовали, управляли, стремясь доказать свою самостоятельную государственную значимость. Баварские министры и парламентарии в этой борьбе союзных стран с общегерманским правительством играли руководящую роль. Находили самые сочные выражения в защиту автономии союзных стран. Выступали с особенно развязной самоуверенностью.
Отблеск этой роли падал и на представителей оппозиции, соратников доктора Гейера. Несмотря на то, что они, согласно своей программе, боролись против баварского партикуляризма, они также благодаря политической структуре Германии находились до некоторой степени в центре большой политики, чувствовали себя значительными, и воскресные предобеденные часы в "Тирольском погребке" представлялись им чуть ли не историческими.
Они, эти деятели политической оппозиции, с подчеркнутой простотой устраивались не в маленькой, более дорогой, боковой комнате, а в битком набитом людьми главном зале. Чужой всем, худой, с измученным лицом, сидел доктор Гейер между двумя лидерами своей фракции господами Иозефом Винингером и Амбросом Грунером. Сразу по приходе он заглянул в соседнюю комнату, где часто бывал министр юстиции. Но он увидел не Кленка, а лишь грузного Флаухера. Слегка разочарованный отсутствием врага и все же, под влиянием усталости, довольный тем, что не придется бороться, Гейер сидел, торопливо, без всякого удовольствия глотал вино, сквозь табачный дым приглядывался к лицам своих соседей по столу. Иозеф Винингер принадлежал к обычному типу местных "круглоголовых". На бледно-розовом, обрамленном белокурой растительностью, лице притаились добродушные водянистые глаза. Медленно, миролюбиво, вместе с кусками сосисок, прожевывал он обрывки фраз. Амброс Грунер, напротив, вызывающе закручивал усы, сидел, по-фельдфебельски подобрав живот, терся им о стол и в сильных выражениях громил правительство. Что, собственно, нужно было доктору Гейеру среди этих людей? Он знал наверняка: как ни отличны друг от друга эти два человека, они одинаково будут реагировать на слова министра просвещения, поддадутся на приманку грубовато-простодушного обращения. У них была одинаковая душевная основа, все они, невзирая на социалистическую болтовню, одинаково увязли в липкой тине крестьянской идеологии.
Из соседней комнаты теперь явственно доносился ворчливый голос доктора Флаухера. За его столом шумно спорили о Бисмарке, об особых правах Баварского эмиссионного банка, о причинах смерти только что извлеченного из гробницы египетского царя Тутанхамона, о качестве пива завода "Шпатенбрей", о транспортной политике советской России, о зобе - природной болезни местного населения, об экспрессионизме, о достоинствах кухни ресторана у Штарнбергского озера. Снова и снова разговор возвращался к автопортрету Анны-Элизабет Гайдер. Из галереи Новодного просачивались слухи о том, что портрет продан в Мюнхен лицу с видным общественным положением; продан за круглую сумму. Кому именно - оставалось неизвестным. Высказывали предположение, что барону Рейндлю, крупному промышленнику. Спорили о достоинствах картины. Писатель Маттеи собирался в следующем номере своего журнала поместить стихотворение, о котором вчера говорил Гессрейтеру. Оно в голове его уже было готово. Он прочел вслух звучные, сальные строфы, полные яда. Из-за стекол пенсне этот человек с исполосованным сабельными рубцами лицом следил, словно жадный пес, за производимым его стихами впечатлением. За столом раскатисто хохотали, пили за его здоровье. Он сидел откинувшись, держа трубку в зубах, сытый, удовлетворенный. Но другой писатель, доктор Пфистерер, также непременный член этого общества, нашел стихотворение циничным. По его мнению, Анна-Элизабет Гайдер, если бы только ее так не травили, сама вернулась бы к здравому смыслу. Доктор Пфистерер, так же как и доктор Лоренц Маттеи, носил серую куртку и также писал длинные рассказы о жизни в баварских горах, создавшие ему широкую популярность во всей Германии. Его его рассказы были оптимистичны, трогали душу, возвышали; он верил в доброе начало в людях, за исключением разве только Маттеи, которого ненавидел. Они сидели друг против друга, эти два баварских писателя, с багровыми лицами, и мерили друг друга из-за стекол пенсне взглядами своих узких глазок. Неуклюжий, с исполосованным рубцами лицом держал голову наклоненной, другой - беспомощно и взволнованно выставлял вперед седеющую рыжую бороду.
Все кричали, перебивая друг друга. Победителем в этом крике оказался в конце концов, несмотря на то, что он не был особенно громким, голос профессора Бальтазара фон Остернахера. С гибкой, настойчивой изысканностью заглушая все остальные голоса, ратовал он против умершей девушки. Кто посмеет сказать, что он не революционер? Не стоял ли он всегда за безусловную свободу в искусстве, даже и в изображении эротического? Но такая живопись представляла собой вполне определенный физиологический процесс: это был акт самоудовлетворения неудовлетворенной женщины, не имевший ничего общего с искусством.
Кельнерша Ценци, прислонясь к буфету, слушала и с беспокойством видела, что профессор Остернахер в пылу увлечения дает остыть своим сосискам. Она отлично разбиралась в политических взглядах своих клиентов. Ей многое приходилось слышать. Не бог весть как трудно было сопоставлять одно с другим. Она могла бы вскрыть подноготную многих событий в области политики, хозяйства и искусства. Она знала, почему так горячился профессор Остернахер, так что стоявшие перед ним сосиски успевали остыть.
Большой человек этот профессор, знаток истории искусства, знаменитый и высоко оплачиваемый, особенно по ту сторону океана. Приезжие, когда она называла им его имя, с любопытством и уважением поглядывали на него. Но кассирша Ценци хорошо помнила его искаженное лицо, когда однажды кто-то из прихвостней профессора донес ему, что Крюгер отозвался о нем как о "способном декораторе". Она прекрасно понимала, что факт покупки пропагандируемой этим Крюгером картины, да еще мюнхенцем, да еще за высокую цену, он принял за личное оскорбление. Ценци знала его лучше, чем знали его даже жена и дочь. Да, он действительно когда-то был революционером в своей манере письма. Но он застыл в этой манере, а мода на нее оказалась преходящей. Он постарел и, когда ему казалось, что никто не наблюдает за ним, - Ценци знала это, - по-стариковски горбился. Ценци хорошо угадывала его настроение, когда он бранился. Ведь это он, собственно, не на других нападал, а его кололо, злило, мучило собственное крушение. В таких случаях она особенно мягко, по-матерински обращалась с ним и успокаивала его до тех пор, пока, охрипший от злобных выкриков, он не принимался за остывшие сосиски.
В шум кипевших кругом споров ворвался звук подкатившего новехонького темно-зеленого автомобиля. Из него вышел человек с добродушно-хитрым, морщинистым сияющим мужицким лицом - Андреас Грейдерер, художник, написавший "Распятие". Широко шагая, доверчиво направился он к столу своих знаменитых коллег. Они всегда терпели его в своем обществе: ведь о нем не могло быть речи как о конкуренте. Наивное крестьянское остроумие и умение ловко играть на губной гармонике давали ему возможность занимать свое постоянное место в этом кругу. Но сегодня, когда он, добродушно подшучивая над своим чертовски неожиданным успехом, подошел к ним, его встретили кислыми, недоступными лицами. Никто не выразил склонности отодвинуться, чтобы освободить для него место. Наступило молчание. С другой стороны площади, из пивной, донеслись звуки духового оркестра, игравшего популярную песню "Томится в Мантуе в оковах верный Гофер..." (*5) Смущенный холодным приемом, Грейдерер вернулся назад в общий зал, натолкнулся там на представителей оппозиции. При других условиях господа Винингер и Грунер демонстративно приветливо встретили бы художника, подвергшегося преследованиям со стороны министра просвещения. Но сегодня они очень скоро постарались отделаться от него, предугадывая, что его присутствие помешает столь желанной воскресной добродушно-воинственной беседе с "большеголовыми". Они становились все более односложными, пили, курили, ограничиваясь ничего не выражавшим хмыканьем. Художник долго не замечал, что именно он является причиной этого кислого настроения. Но наконец, почуяв, в чем дело, он удалился в своем темно-зеленом автомобиле, провожаемый взглядами всех присутствующих.