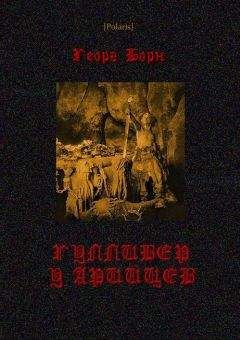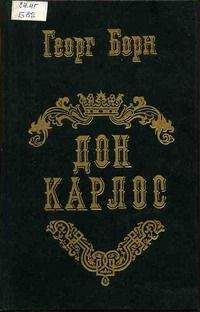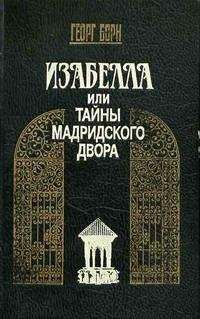— Ну, пойдемте со мной.
Дальнейшая процедура очень проста: показываю документ, доказывающий, что я пользуюсь правом проживания во Франции, получаю удостоверение, что был задержан при переходе границы.
Плачу сто франков штрафа и оказываюсь на свободе.
Через два часа я сижу в поезде, идущем в Саарбрюккен. Я счастлив, что все благополучно закончилось и романтическое приключение осталось позади, а я спокойно сижу в купе второго класса. Вынимаю пакет, данный мне на прощанье «голландцем», пересчитываю деньги — четыре тысячи франков. Что же, я собираюсь прожить в Саарбрюккене дней пять, а потом дня три в Страсбурге.
Денег хватит. Господин Банге, вы — джентльмен. И о вас у меня осталось хорошее впечатление, господин с голландской книгой. Только я забыл спросить вас, читаете ли вы действительно по-голландски.
Я насвистываю веселый мотив. Мои соседи на меня удивленно смотрят.
Я в Саарбрюккене — одном из самых забавных уголков Европы. Здесь причудливо скрещивается покойная веймарская Германия со здравствующей Третьей империей. Жизнь проходит под знаком предстоящего в ближайшем году плебисцита. Идет ожесточенная политическая борьба. Меня чертовски смешат эти демократы и католики, они прекрасно знают, что Саарбрюккен будет германским, но в то же время в глубине души надеются на чудо.
Я встречаю двух знакомых по Парижу эмигрантов. Прошу помочь мне выехать из Саарбрюккена. Меня расспрашивают. Сначала отмалчиваюсь, потом начинаю рассказывать: я нелегально ездил в Германию в связи с одним делом. Сначала все шло прекрасно. Мне, однако, дали в Париже одно дурацкое поручение. Я посетил адвоката Оскара Бюркеля, которому должен был кое-что сообщить. Я отправился к нему на квартиру. Едва не попал в засаду. С большим трудом выбрался, два дня скрывался у приятелей и после очень неприятных передряг добрался до границы. Ночью я ее нелегально перешел, подвергся жестокому обстрелу и ползком добрался до пограничного поста на Саарской территории.
Для большей убедительности я показываю удостоверение о нелегальном переходе границы. На меня смотрят с уважением и сочувствием.
В тот же день отправляюсь в Саарбрюккенский комитет коммунистической партии. Рассказываю о происшедшем со мной, с моей антифашистской деятельности, о связях, которыми я располагаю, в особенности в Лондоне. Я ни на что не претендую, но хотел бы быть полезен делу борьбы с фашизмом. Я убежден, что компартия является основным фактором в этой борьбе. Потом перехожу к своим политическим взглядам, исканиям.
Меня внимательно слушают, изредка задают вопросы. Мне начинает казаться, что я применил правильную тактику и добился положительных результатов. Кажется, Банге будет мною доволен. Ну, для первого раза хватит.
Один из коммунистов, молодой парень с руками рабочего и тонким лицом, догоняет меня на улице. Нам, оказывается, по дороге. Заходим выпить по кружке пива. Мы мирно сидим за маленьким столиком, покрытым клеенкой (я, кстати, терпеть не могу запаха клеенки). Я рассказываю о своих планах, излагаю свою оценку политических событий. Мой собеседник молча слушает. Вдруг он останавливает меня и спокойно вполголоса говорит:
— Вас, Штеффен, плохо проинструктировали, от вас за несколько километров пахнет духами гестапо.
Я возмущен и оскорблен.
— Вы, Штеффен, совершенно напрасно теряете время, с нами у вас ничего не выйдет. Вот наивных демократов или пацифистов вам, к сожалению, удастся обработать. Во всяком случае, я вам рекомендую отсюда убираться, иначе могут получиться неприятности.
Подозвав кельнера, коммунист платит за пиво и уходит. Я громко говорю ему вдогонку:
— Вы еще пожалеете, безмозглый дурак.
Я так и ожидал, у меня с этими грубыми скотами ничего не выходит. Тоже, новые Макиавелли и Игнации Лойолы, — читают в сердцах. Нет, с первым поручением полковника ничего не выйдет. Я думаю, что у меня слишком интеллектуальные внешность и психология для этих узколобых сектантов. Я чувствую, как во мне нарастают озлобление и ненависть.
Впрочем, действительно нужно отсюда уезжать, чтобы не нарваться на большую неприятность.
На другой день я получаю деньги на билет до Парижа. Благодарю своих эмигрантских друзей и прошу их никому не говорить о моем пребывании здесь: я не хотел бы, чтобы об этом узнали местные коммунисты — их организация полна агентов гестапо..
В Страсбург я решаю не заезжать. У меня теперь упадок энергии и сил, я не могу забыть разговора с коммунистом.
Нет, Штеффен, теперь тебе нужно развлечься и отдохнуть. Не будем торопиться. Ты, мой мальчик, ведешь рискованную игру, смотри, не просчитайся, а главное, не падай духом.
Опять парижские улицы, специфический запах великого города. В течение нескольких дней я обхожу моих знакомых, рассказываю им о своей поездке, вздрагиваю при воспоминании о погоне и выстрелах на границе. Устраиваю головомойку приятелю, давшему мне поручение к Бюркелю. Тот уже знает об этом аресте, сконфужен и огорчен, просит извинить его.
— Дело не в извинениях, а в том, что мне долго нельзя будет показать носа в Германию, — укоризненно констатирую я.
На другой день вечером я звоню к уважаемому доктору Мейнштедту. Прохожу в кабинет к Форсту.
— Ну, как съездили, Браун? Со щитом или на щите? Рассказываю о данных мне поручениях, о разговоре с Николаи и Банге. Для Форста это, очевидно, является новостью. У него приподнимается сначала правая бровь, потом левая. Это признак удивления, смешанного с недоверием. Когда я рассказываю Форсту о романтическом переходе границы, он язвительно улыбается и спрашивает:
— Что, спина чесалась, боялись получить пулю в зад, Браун? Что?
Меня это взрывает и я ехидно отвечаю:
— Конечно, господин Форст, я очень волновался, но меня больше всего беспокоило, что в случае, если со мной случится неприятное недоразумение, я не смогу вам писать расписок и благодаря этому уменьшатся ваши доходы.
У Форста судорожно сжимаются губы.
— Слушайте, Браун, я вам даю искренний совет: не шутите со мной. Вы меня плохо знаете, иначе были бы осторожнее. Почти все те, кто когда-либо позволял себе со мной шутки, теперь сидят в концентрационном лагере. Некоторых же в виде особой чести я сам допрашивал. Не завидуйте им, Браун, зависть большой порок.
Я чувствую неприятное ощущение — как будто у меня по руке проскользнула ядовитая змея. Я недооценил этого человека. Он опаснее, чем я предполагал. Я ясно читаю в его глазах злобу, жестокость, мстительность. Да, попасть в руки этого параноика — небольшое удовольствие. Я вспоминаю, как один национал-социалист, очевидно, такой же тип, убил человека за то, что тот двадцать лет назад доставил ему неприятность.
Если бы нашелся психиатр с беллетристическим талантом, он мог бы написать прекрасную книгу под названием «Третья империя и паранойя».
Я вспоминаю, как мой новый друг, Людвиг Арнольд, объяснял победу национал-социализма и секрет его влияния на массы: бывают периоды, когда целые народы после больших потрясений подвергаются психическому заболеванию, некоторое время носящему скрытый характер. Стоит появиться психопату большого калибра, обладающему в то же время большим запасом хитрости и ловкости, человеку типа Петра Амьенского, и он может повести огромное число людей в крестовый поход, на религиозную войну, на массовое истребление. На этой же базе строится Третья империя. Арнольд при этом заметил, что коммунисты считают его теорию несерьезной. Откровенно говоря, я не могу о них вспомнить без раздражения.
Но я отвлекся от основной темы. Я смотрю на лицо Форста и думаю: «Я с вами действительно не буду больше шутить, — вы лишены чувства юмора. С другой стороны, однако, нельзя показать, что я вас побаиваюсь».
— Видите, ли, господин Форст, когда я беседовал с доктором Банге и полковником Николаи, то они сказали, что вы будете всячески помогать мне в моей очень серьезной работе, вы же меня нервируете. Не забудьте, что мне нервная энергия нужна больше, чем вам, спокойно сидящему в мягком кресле.
Моя наглость действует, как удар хлыстом. Форст бледнеет.
Теперь надо смягчать:
— Главное, господин Форст, нам не из-за чего ссориться. Я, кстати, очень расхваливал вас в Берлине, а вы из-за безобидной шутки полезли на стенку. Давайте мириться, и будем, как прежде, добрыми друзьями.
Лицо этой крысы меняется, как маска, и делается любезно-сладким:
— Я тоже пошутил, Браун. Ну и оригинал же вы! Перейдем, однако, к делу. Что вы предполагаете делать в ближайшем будущем?
— Напишите в Берлин, что я больше к коммунистам даже не сунусь, так как из этого ничего не выйдет, кроме того, что я буду скомпрометирован. Я лучше основательно займусь Арнольдом.
— Ну, желаю вам удачи. — И Форст машет мне кистью руки: так любящие мамаши, уходя, прощаются со своими детками и при этом еще говорят «па-па».