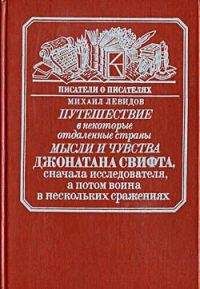Итак, я Вас не любил. Вы уже не требовали от меня великой любви, какую мне, конечно, не внушит никакая женщина, раз уж мне не дано было почувствовать ее к Вам. Но этого Вы не знали. Вы были слишком благоразумны, чтобы не смириться с этой безысходной жизнью, но Вы были слишком здоровой натурой, чтобы не страдать от нее. Страдание, какое причиняешь ты сам, замечаешь в последнюю очередь; к тому же Вы его скрывали: в первое время я думал, что Вы почти счастливы. Вы старались в каком-то смысле приглушить себя, чтобы мне угодить; Вы носили темную, плотную одежду, скрывавшую Вашу красоту, потому что малейшая Ваша попытка принарядиться меня пугала (Вы это уже поняли), словно мне предлагалась любовь. Не любя Вас, я испытывал по отношению к Вам какую-то беспокойную привязанность; стоило Вам на мгновение отлучиться, я целый день пребывал в унынии, и трудно сказать, от чего я страдал, - от того, что разлучен с Вами, или просто от того, что боюсь быть один. Я и сам этого не знал. Впрочем, быть вместе с Вами я тоже боялся, боялся одиночества вдвоем. Я окружал Вас надрывной нежностью, двадцать раз в день спрашивал Вас, дорог ли я Вам, слишком хорошо понимая, что это невозможно.
Мы подчеркнуто соблюдали церковные обряды, проявляя в благочестии рвение, уже не соответствовавшее нашей вере: те, у кого почва уходит из-под ног, хватаются за Бога, но именно в эти мгновения Бог тоже уходит от них. Мы часто задерживались в тех старинных, уютных церквах, куда обычно заглядывают путешественники, мы даже привыкли молиться в них. Вечером мы возвращались к себе, прижавшись друг к другу, соединенные хотя бы этим общим порывом; мы искали предлогов, чтобы постоять на улице, наблюдая жизнь других: чужая жизнь всегда кажется легкой, ведь ты ее не проживаешь. Мы слишком хорошо знали, что где-то нас ждет наше временное пристанище, комната, холодная, голая, тщетно распахнутая в теплую итальянскую ночь, комната, где нет одиночества, но нет и интимности. Мы ведь жили в одной комнате, этого хотел я. Каждый вечер мы не торопились зажигать лампу, свет мешал нам, но потом мы не решались ее погасить. Вы находили, что я бледен, а сами тоже были бледны; я боялся, не простудились ли Вы; Вы ласково укоряли меня за то, что я устаю от слишком долгих молитв: мы проявляли друг к другу мучительную доброту. В эту пору Вы страдали изнурительной бессонницей, мне тоже было трудно заснуть; мы оба притворялись спящими, чтобы не начать жалеть друг друга. А иногда Вы плакали. Плакали как можно беззвучнее, чтобы я ничего не заметил, и я делал вид, что ничего не слышу. Наверное, лучше не замечать слез, когда не можешь их осушить.
У меня изменился характер: я стал капризен, несговорчив, раздражителен, словно одна обретенная добродетель освобождала меня от всех других. Я сердился на Вас за то, что Вы не смогли дать мне того покоя, на какой я рассчитывал, - Господи, я ведь только и мечтал о том, чтобы его обрести. Я пристрастился к полупризнаниям, я мучил Вас своими душевными излияниями, вселявшими в Вас тем большую тревогу, что они были недосказанными. Мы находили жалкое утешение в слезах - наше общее горе в конце концов объединило нас так, как могло бы объединить счастье. Вы тоже изменились. Казалось, я отнял у Вас былую ясность души, хоть и не сумел присвоить ее себе. Вы, как и я, вдруг ни с того ни с сего проявляли нетерпение или становились сумрачной; мы превратились в двух больных, ищущих опоры друг в друге.
Я полностью забросил музыку. Я смирился с тем, что уже никогда не буду жить в том мире, частью которого она была. Говорят, музыка - вселенная души; возможно, дорогая; это только доказывает, что душа и плоть нераздельны и одна заключает в себе другую, как клавиатура заключает в себе звуки. Тишина, сменяющая аккорды, - это не обычная тишина, это тишина чуткая, живая. Много неведомого нам самим шепчется в нас под сенью этой тишины - мы никогда не знаем, что скажет нам умолкнувшая музыка. Картина, статуя, даже поэма вызывают в нас совершенно определенные мысли, которые, как правило, не уводят нас за свои пределы, но музыка говорит нам о безграничных возможностях. Очень опасно отдавать себя эмоциям в искусстве, если ты решил отрешиться от них в жизни. Поэтому я перестал играть и сочинять музыку. Я не из тех, кто ждет от искусства подмены наслаждения; я люблю обе эти немного грустные формы, в какие облекается любое человеческое желание, люблю и то и другое, а не подменяю одно другим. Я перестал сочинять. Мое отвращение к жизни мало-помалу распространялось и на мечты об идеальной жизни, ведь шедевр, Моника, - эта вымечтанная жизнь. Даже та простая радость, какую дает художнику законченное творение, засохла или, лучше сказать, замерзла во мне. Может, причина была в том, что Вы не музыкантша: мое самоотречение, моя верность были бы неполными, вступай я каждый вечер в мир гармонии, куда Вы не были вхожи. От работы я отказался. Я был беден, до женитьбы я трудился, чтобы жить. Теперь я находил особое сладострастие в том, чтобы зависеть от Вас, и даже от Ваших денег, такое положение, несколько даже унизительное, ограждало меня от былого греха. Всем нам, Моника, свойственны странные предрассудки: предать женщину, которая тебя любит, всего лишь жестоко, но обмануть ту, на деньги которой живешь, - чудовищно. И Вы, такая трудолюбивая, не смели осудить вслух мое полнейшее безделье - Вы боялись, как бы я не подумал, что Вы укоряете меня за мою бедность.
Прошла зима, потом весна; безмерная печаль изнурила нас, как самый безоглядный разгул. Сердца у нас иссохли, как бывает всегда после слишком обильных слез, мое уныние походило на спокойствие. Меня почти пугало то, что я так спокоен; я считал, что одержал над собой победу. Увы! Мы так быстро начинаем тяготиться своими победами! Мы оба решили, что устали от путешествий и потому так подавлены, и поселились в Вене. Мне было не очень приятно возвращаться в город, где я когда-то жил один, но Вы из душевной деликатности хотели, чтобы я поселился поближе к родным краям. Я старался поверить, что в Вене буду теперь не так несчастлив, как прежде; главное же, я был теперь не так свободен. Я предоставил Вам выбирать обстановку и обои для нашего жилья, не без горечи наблюдая за тем, как Вы ходите по еще пустым комнатам, в которых будут заперты две наши жизни. Венское общество пленила Ваша смуглая, хоть и печальная, красота; у нас обоих не было привычки к светской жизни, и на какое-то время она заставила нас забыть, насколько мы одиноки; потом она стала нас утомлять. Мы с каким-то странным упорством терпели уныние слишком нового дома, где ни с одним предметом не было связано никаких воспоминаний и где зеркала не знали нас. Несмотря на мои старания быть добродетельным, несмотря на Ваши попытки любить, мы не научились даже развлекать друг друга. При известной трезвости ума пользу можно извлечь из всего, даже из порока: он позволяет взглянуть на мир немного по-иному, чем принято. Жизнь, уже не такая замкнутая, как прежде, и книги, которые я прочел, открыли мне, насколько велика разница между внешними приличиями и глубинной моралью. Люди никогда не говорят всей правды, но, когда у тебя создается привычка кое о чем умалчивать, ты вскоре замечаешь, что так поступают все. Я приобрел странную способность распознавать тайные пороки и слабости; моя обнаженная совесть обнажала передо мной совесть других. Наверняка те, с кем я себя сравнивал, возмутились бы таким сопоставлением; они видели в себе людей нормальных, может, потому, что их пороки были из числа самых заурядных; но почему я должен был считать себя ниже тех, кто ищет наслаждения ради наслаждения, которое чаще всего даже не стремится к появлению ребенка? И вот я стал говорить себе, что мой единственный изъян (вернее, мое единственное несчастье) состоит в том, что я - нет, не хуже других, а просто отличаюсь от них. К тому же многие люди прекрасно приспосабливаются к инстинктам, похожим на мои; они не так уж редки и, главное, не так уж странны. Я злился на себя, что так трагически воспринял заповеди, опровергаемые столькими примерами, да и вообще ведь человеческая мораль - не что иное, как великий компромисс. Господи, я никого не осуждаю: каждый молча лелеет свои тайны и мечты, не сознаваясь в них никому, даже самому себе, и все объяснилось бы, если бы люди не лгали. Выходит, я, быть может, мучил себя из-за ерунды. Подчиняясь правилам самой строгой морали, я теперь считал себя вправе судить эти правила - можно подумать, что с тех пор, как я отказался от какой бы то ни было свободы в жизни, я отважился стать более свободным в мыслях.
Я еще не сказал о том, как Вы мечтали о сыне. Я тоже страстно о нем мечтал. Однако, узнав, что у нас будет ребенок, я почти не ощутил радости. Конечно, брак без детей - всего лишь разрешенный разврат; если любовь к женщине достойна уважения, какого не заслуживает любовь иного рода, то это только потому, что любовь к женщине чревата будущим. Но когда жизнь кажется тебе абсурдной и бесцельной, ты не станешь радоваться ее продолжению. Ребенку, которого мы оба хотели, предстояло появиться на свет у двух чужих друг другу людей: он не был ни доказательством счастья, ни дополнением к нему: он его замещал. Мы смутно надеялись, что с появлением ребенка все образуется; я желал его только потому, что Вы грустили. Вначале Вы даже стеснялись говорить со мной о нем - это больше чем что-либо другое доказывает, насколько наши жизни оставались далекими друг другу. И все же это маленькое существо начало нам помогать. Я думал о нем отчасти так, как если бы то был не мой ребенок; я наслаждался теплом близости, которая снова стала братской и в которой уже не могло быть места страсти. Мне почти казалось, что Вы моя сестра или родственница, которую доверили моему попечению, и я должен заботиться о Вас, ободрять, а может, и утешать, чтобы Вы не горевали о том, что чего-то лишены. Вы заранее любили это крохотное создание - для Вас оно уже было живым. В том, что меня это радует, я вполне мог признаться, но и в этой радости была доля эгоизма: не сумев сделать Вас счастливой, я находил естественным переложить эту обязанность на ребенка.