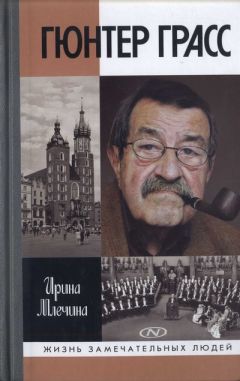Куда несноснее, чем дразнилки соседских детей, куда огорчительнее, особенно для моих родителей, оказался тот дорогостоящий факт, что на меня или, точнее сказать, на мой голос начали сваливать любое окно, разбитое в нашем квартале наглыми, невоспитанными хулиганами. Поначалу матушка добродетельно оплачивала все, по большей части разбитые с помощью рогаток, кухонные окна, потом, уразумев наконец особенности моего голоса, она, прежде чем возмещать убытки, начала требовать доказательств, и при этом у нее делались холодные деловые глаза. А люди, живущие по соседству, и впрямь были ко мне несправедливы. Ничто в этот период не могло быть несправедливее, чем утверждать, будто виной всему -живущий во мне детский дух разрушения, что я испытываю ничем не объяснимую ненависть к стеклу и стеклянным изделиям, как и другие дети порой в приступах бешенства дают выход своим темным и бессмысленным антипатиям. Лишь тот, кто занят игрой, разрушает умышленно. Я же никогда не играл, я работал на своем барабане, а что до голоса, то первоначально я употреблял его лишь в пределах необходимой обороны. Только опасения за мою работу на барабане вынуждали меня целенаправленно пускать в ход голосовые связки. Будь я наделен способностью тем же методом и теми же звуками резать унылые, закрытые сплошной вышивкой, порожденные художественной фантазией Гретхен Шефлер скатерти или отслаивать с поверхности пианино темный лак, я бы куда как охотно оставил в покое все стеклянное. Но скатерти и лак были равнодушны к моему голосу. Точно так же не мог я даже с помощью нескончаемого крика стереть узоры с обоев, как не мог с помощью двух протяжных, нарастающих, трущихся друг о друга, будто в каменном веке, тонов добыть тепло, потом жар и, наконец, искру, необходимую для того, чтобы на обоих окнах гостиной занялись декоративным пламенем пересохшие, пропитанные табачным духом гардины. Ни у одного стула, на котором сидел Александр Шефлер или Мацерат, я не мог своим голосом "отпеть" ножку. Право же, я предпочел бы защищаться не столь чудесными и более безобидными средствами, но безобидных средств в моем распоряжении не было, одно только стекло покорялось мне и несло свой крест. Первую успешную демонстрацию этой способности я провел вскоре после своего третьего дня рождения. Барабан принадлежал мне уже четыре недели с хвостиком, и за это время при моем усердии я пробил его до дыр. Правда, бело-красные зубцы обечайки еще удерживали вместе верх и низ, но дыру в центре звучащей стороны уже трудно было не заметить, и -поскольку я презирал нижнюю сторону -эта дыра становилась все больше, по краю пошли острые зазубрины, стертые от игры частички жести осыпались и провалились внутрь барабана, где недовольно звякали при каждом ударе, и повсюду, на ковре гостиной и на красно-бурых полах в спальне, поблескивали белые частички лака, которые не пожелали долее удерживаться на истерзанной жести моего барабана. Родители боялись, как бы я не порезал себе руки об угрожающе острые жестяные края. Особенно Мацерат, который после моего падения с лестницы громоздил одну меру предосторожности на другую. Поскольку, активно размахивая руками, я мог и в самом деле задеть острые края, опасения Мацерата были хоть и преувеличены, но не лишены оснований. Правда, с помощью нового барабана можно было избегнуть всех грозящих мне опасностей, но они вовсе и не помышляли о новом барабане, а просто хотели отобрать у меня мою добрую старую жестянку, которая вместе со мной падала, вместе лежала в больнице и была оттуда выписана, вместе -вверх-вниз по лестнице, вместе на булыжной мостовой и на тротуарах, сквозь "Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать", мимо "Что я вижу, ты не видишь", мимо "Где у нас кухарка, Черная кухарка?", отобрать и ничего не дать взамен. Дурацкий шоколад должен был служить приманкой. Мама протягивала его мне и при этом складывала губки бантиком. Именно Мацерат с напускной строгостью ухватился за мой раненый инструмент, а я вцепился в моего инвалида. Мацерат потянул его к себе, а силы мои, достаточные лишь для того, чтобы барабанить, были уже на исходе. Один красный язычок пламени за другим медленно ускользал из моих рук, вот и круглая обечайка готовилась покинуть меня, но тут Оскару, который до того дня слыл вполне спокойным и, можно сказать, слишком благонравным ребенком, удался его первый разрушительный и действенный крик. Круглое граненое стекло, защищавшее медово-желтый циферблат наших напольных часов от пыли и умирающих мух, разлетелось на куски, упало -причем некоторые куски в падении сломались еще раз -на красно-коричневый пол, ибо ковер не доставал до подножия часов. Впрочем, внутреннее устройство дорогого механизма ничуть не пострадало. Маятник спокойно продолжал свой путь -если про маятник можно так сказать, то же делали и стрелки. И даже механизм боя, обычно крайне чувствительно, я бы даже сказал истерически, реагирующий на каждый толчок, на проезжающие мимо пивные фургоны, даже он никак не воспринял мой крик; разлетелось только стекло, но уж зато оно разлетелось вдребезги.
"Часы пропали!" -вскричал Мацерат и выпустил барабан из рук. Беглый взгляд убедил меня, что мой крик не причинил собственно часам никакого вреда, что погибло лишь стекло. Однако для Мацерата, как и для матушки, и для дяди Яна, который в тот день нанес нам воскресный визит, судя по их поведению, погибло нечто большее, нежели простое стекло. Побледнев, они смотрели друг на друга беспомощно растерянным взглядом, ощупывали изразцовую печь, держались за буфет и за пианино, не смели сдвинуться с места, и Ян Бронски, умоляюще закатив глаза, шевелил сухими губами, так что я и по сей день полагаю, будто усилия дяди Яна были адресованы молитве, взывающей о помощи и сострадании, как, например, "О агнец Божий, ты искупаешь грехи мира, смилуйся же над нами", -и это три раза подряд, а потом и еще: "Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи хоть слово..."
Господь, разумеется, не сказал ни слова, да и не часы это сломались, а только стекло. Однако взрослые очень странно относятся к своим часам, странно и по-детски в том смысле, в котором лично я никогда ребенком не был. Хотя часы, быть может, самое великолепное творение взрослых, но дело обстоит так: в той же мере, в какой взрослые способны быть творцами и, при наличии усердия, честолюбия и некоторой доли везения, таковыми становятся, они, едва сотворив нечто, сами превращаются в творения своих эпохальных открытий.
Притом часы, как сейчас, так и прежде, ничего не стоят без взрослого человека. Он их заводит, переводит вперед, отводит назад, несет их к часовщику, чтобы тот проверил правильность хода, почистил и, в случае надобности, починил. Как и крику кукушки, который слишком рано обрывается, опрокинутой солонке, пауку поутру, черным кошкам, перебежавшим дорогу слева направо, писанному маслом дядиному портрету, который падает со стены, потому что разболтался крюк, вбитый в штукатурку, разбитому зеркалу, так и часам и тому, что за ними стоит, взрослые придают большее значение, чем имеют собственно часы.
Матушка, несмотря на некоторые мечтательно-романтические черты, наделенная трезвым взглядом и по склонности к легкомыслию умеющая истолковать любую сомнительную примету в положительном для себя смысле, нашла спасительное слово. "Стекло бьется к счастью!" воскликнула она, прищелкивая пальцами, затем принесла совок и метелочку и вымела все осколки или все счастье. Если принять на веру слова матушки, я принес своим родителям, родственникам, знакомым, а также незнакомым людям премного счастья, ибо у каждого, кто пытался отнять мой барабан, я раскричал, распел, расколол оконные стекла, пустые бутылки из-под пива, дышащие весной флакончики духов, хрустальные вазы с искусственными плодами -короче, все, что было стеклянным, все, что было произведено дыханием стеклодува на стекольных заводах, порой имея стоимость простого стекла, порой, однако, расцениваясь как произведение искусства. Чтобы не натворить слишком много бед, ибо мне и тогда нравились, и по сей день нравятся изящные стеклянные изделия, я, когда у меня вечером хотели отнять мой барабан, хотя ему, барабану, следовало ночью лежать вместе со мной в кроватке, разрушал одну или несколько лампочек в нашей четырежды проливающей свет люстре под потолком. Именно так на свой четвертый день рождения, в начале сентября двадцать восьмого года, я поверг все праздничное общество -родителей, супругов Бронски, бабушку Коляйчек, Шефлеров и Греффов, которые натащили мне кучу всяких подарков, оловянных солдатиков, парусный кораблик, пожарную машину, но только не барабан, -словом, поверг их всех, предпочитавших, чтобы я забавлялся с оловянными солдатиками, чтобы я счел достойной игры бессмысленную пожарную машину, не желавших оставить меня при моем старом, дырявом, но верном барабане, отбиравших у меня жесть, но вместо того совавших мне в руки кораблик, помимо всего прочего еще и непрофессионально оснащенный, всех, имеющих глаза лишь затем, чтобы не видеть моих желаний, их всех я поверг своим криком, который, обежав по кругу, убил четыре лампы нашего висячего светильника, в допотопную тьму. Но уж таковы они, взрослые: после первых испуганных криков, после исступленного желания вернуть свет они освоились с темнотой, и, когда моя бабушка Коляйчек, единственная -если не считать маленького Стефана, -кто не знал, на кой ей сдалась эта темнота, вместе с хныкающим Стефаном, который держался за ее подол, сходила в лавку за свечами и озарила комнату их светом, остальная, изрядно подвыпившая часть компании оказалась разбитой на странные парочки. Ну, мамаша моя, как и следовало ожидать, в расхристанной блузке сидела на коленях у Яна Бронски. Крайне неаппетитное зрелище являл коротконогий пекарь, почти исчезнувший в Греффихе, Мацерат облизывал золотые и лошадиные зубы Гретхен Шефлер. Одна лишь Хедвиг Бронски сидела в пламени свечи с набожным коровьим взглядом, руки сложила на коленях, сидела близко, но отнюдь не слишком к зеленщику Греффу, который хоть и не выпил, но все же пел, пел сладким голосом, пел, распространяя грусть и меланхолию, пел, подбивая Хедвиг Бронски ему подпевать. Они пели на два голоса песню скаутов, где некий Рюбецаль вынужден бродить в Исполиновых горах. А про меня забыли. Оскар сидел под столом с останками своего барабана, он извлек еще несколько ритмов из пробитой жести, и вполне возможно, что нечастые, но равномерные звуки барабана были не лишены известной приятности для тех, кто, перемешавшись в упоении, лежал или сидел в комнате. Ибо барабан словно защитным слоем перекрывал все чмокающие и сосущие звуки, невольно издаваемые теми, кто демонстрировал напряженные и лихорадочные доказательства своих усилий. Я оставался под столом, когда со свечами вернулась бабушка, подобно гневному архангелу узрела в пламени свечи Содом, признала в пламени свечи Гоморру и с задрожавшими в ее руках свечами подняла крик, устроила скандал и, назвав все это свинством, положила конец идиллии о том, как прогуливается Рюбецаль по Исполиновым горам, потом, расставив свечи по блюдечкам, достала карты из буфета, кинула их на стол и, попутно утешая все еще хнычущего Стефана, провозгласила вторую часть праздника. Вскоре Мацерат ввинтил новые лампочки в старые патроны нашего висячего светильника, наверху задвигались стулья, защелкали, подпрыгивая, пробки от пивных бутылок, и над моей головой зашлепали по столу карты -скат по одной десятой пфеннига. Матушка сперва предложила по четверти, но дяде Яну это показалось слишком рискованным, и, если бы не очередные партии, да при случае гранд с четырьмя время от времени весьма значительно не повышали ставки, все так бы и остались при крохоборской одной десятой.