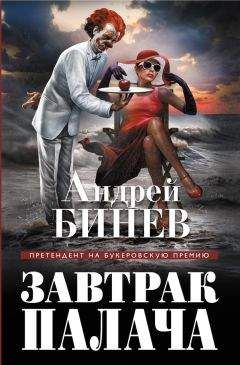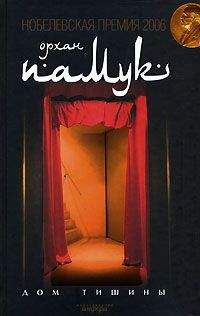Всё поймут неверно, всё дурно истолкуют. Я сразу же отошел недалеко, встал спиной к калитке. Услышав ее голос, обернулся – ты вышла из калитки и куда-то идешь. Куда? Мне стало любопытно, я пошел следом.
В ее походке есть нечто странное – она чуть-чуть переваливается. Как мужчина. А если догнать ее и коснуться плеча? «Ты не узнала меня, Нильгюн? Я – Хасан, помнишь, в детстве мы играли у вас в саду вместе с Метином, а потом рыбу ловили?»
Она дошла до угла, не обернулась, идет дальше. Ты что, на пляж идешь, будешь там, среди них? Я рассердился, но продолжал идти следом за ней. Ноги тонкие как тростинки, а идет быстро. Куда ты так торопишься, тебя кто-то ждет?
Но она прошла пляж, свернула и идет вверх по улице. Теперь я могу предположить, кто тебя ждет. Может, ты сядешь в его машину, а может, у него есть катер. Я иду следом, потому что мне любопытно, кем же из них он окажется, ведь я знаю, что он такой же, как все они.
Вдруг она зашла в одну из тамошних бакалейных лавок и пропала из виду. Перед лавкой мальчик продает мороженое. Я знаю этого малыша и стал ждать неподалеку, чтобы мальчик не подумал обо мне чего-нибудь не то. Не люблю прислуживать богачам.
Через некоторое время Нильгюн вышла и, вместо того чтобы идти дальше, пошла обратно тем же путем, что и пришла, прямо ко мне. Я быстро отвернулся и наклонился – якобы завязываю шнурок на ботинке. Она подошла с пакетом в руках и посмотрела на меня. Я смутился.
– Здравствуй, – сказал я, вставая.
– Здравствуй, Хасан, – ответила она. – Как твои дела? – Немного помолчав, она добавила: – Мы вчера видели тебя по дороге, когда ехали сюда, старший брат тебя узнал. Ты так вырос, очень изменился. Чем ты занимаешься? – Она опять немного помолчала и продолжила: – Твой дядя сказал, вы все еще живете наверху, а твой отец продает лотерейные билеты. – Еще немного помолчала и спросила: – Ну а ты что делаешь, говори, в какой перешел?
– Я? Я в этом году на второй год, – наконец выдавил из себя я.
– А почему?
– Ты на море идешь, Нильгюн?
– Нет, – сказала она. – Я иду из бакалеи. Мы возили Бабушку на кладбище. Кажется, ей стало немного плохо от жары, купила ей одеколон.
– Значит, ты не идешь на этот пляж, – уточнил я.
– Там очень много народу, – ответила она. – Я пойду рано утром, когда нет никого.
Мы немного помолчали. Потом она улыбнулась мне, я ей тоже и подумал, что ее лицо вблизи не такое, каким казалось мне издалека. Я взмок как дурак. Решит, что от жары. Молчу. Она шагнула в сторону и сказала:
– Ладно. Передавай привет отцу, хорошо?
Она протянула руку, и мы обменялись рукопожатием. Рука у нее мягкая и легкая. Мне стало стыдно, что у меня вспотела ладошка.
– До свидания, – сказал я.
Она ушла. Я не стал смотреть ей вслед, а побрел куда-то с задумчивым видом, как люди, у которых есть очень важные дела.
Мы вернулись с кладбища, Бабушка поела с нами внизу, а потом ей стало плохо. Правда, ничего серьезного. Мы с Нильгюн смеялись, а она вдруг как-то злобно посмотрела на нас и тут же уронила голову на грудь. Мы взяли ее под руки, отвели наверх, уложили в кровать и протерли ей запястья и виски одеколоном, который принесла Нильгюн. Потом я пошел к себе в комнату и выкурил первую послеобеденную сигарету в своей жизни. Когда стало ясно, что с Бабушкой ничего серьезного, я сел в раскалившийся на солнце «анадол» и уехал. Я поехал не по главной трассе, а по дороге на Дарыджу. Ее тщательно заасфальтировали. Но несколько черешен и смоковниц еще осталось. В детстве мы приходили сюда с Реджепом погулять и устраивали нечто вроде охоты на ворон. Где-то здесь должны быть развалины, которые, как я считал, когда-то были караван-сараем. На холмах построили новые кварталы. И сейчас еще строят. В Дарыдже я не увидел ничего нового – лишь статую Ататюрка десятилетней давности.
В Гебзе я пошел прямо к каймакаму. Каймакам поменялся. Два года назад за этим столом сидел уставший от жизни человек, а сейчас – молодой парень, все время размахивавший руками. Мне не понадобилось ни вытаскивать мою диссертацию, изданную на факультете, ни говорить, что я раньше уже бывал в архиве или что мой покойный отец тоже был каймакамом, что я собирался проделать, чтобы произвести на него впечатление. Он позвал какого-то человека и отправил меня с ним. Вместе мы стали искать Резу, которого я знал с прошлых посещений архива, но найти его не смогли – нам сказали, он ушел в поликлинику. Я решил немного прогуляться по рынку, пока он не вернется.
Пройдя по узкому проходу, над которым свешивался вьющийся кустарник, я вышел к рынку. Сначала я пошел вниз по улице. На улице никого. Какая-то собака бродит по тротуару, в магазине по продаже металлических изделий какой-то человек возится с газовым баллоном. Я вернулся назад, не обращая внимания на витрину канцелярского магазина, и пошел дальше, прячась от солнца в узенькой тени перед магазинами, пока не увидел мечеть. Потом опять вернулся на маленькую площадь, сел под платаном, выпил чаю, чтобы прогнать сон, и, вполуха слушая радио, работавшее в кафе, попытался забыть о жаре, наслаждаясь тем, что никому нет до меня дела.
Когда я вернулся в здание районной администрации, Реза уже пришел: увидев меня, узнал и обрадовался. Пока он искал ключи, мне нужно было написать заявление. Мы вместе спустились в подвал. Он открыл дверь, и я сразу вспомнил запах плесени, пыли и влаги. Мы немного поболтали, пока Реза вытирал пыль со старого стола и стула. Потом он ушел, оставив меня одного.
В архиве Гебзе нет ничего особенного. Все, что есть, осталось от короткого промежутка времени, когда городок был судебным округом, о чем мало кто знал и чем мало кто интересовался. Бóльшая часть документов, сохранившихся с того времени, была отправлена в Измит, который тогда назывался Изникмит. А здесь остались лишь сваленные в кучу, забытые в коробках, друг на друге ферманы[21], купчие, судебные реестры и официальные ведомости, да так и лежат. Тридцать лет назад один школьный учитель истории, любивший свою профессию и пылавший тем бюрократическим национализмом, что был свойствен многим в первые годы республики, пытался навести в этих бумагах какой-то порядок, но потом бросил. Два года назад я решил продолжить его незавершенное дело, но, проработав неделю, испугался. Чтобы быть архивариусом, нужно иметь больше смирения, чем историку. В наши дни мало кто, набравшись хоть какой-то грамоты, способен на такую скромность. И наш школьный учитель тоже был таким: он сразу поддался искушению описать в собственной книге часы, проведенные в архиве. Помню, что в те дни, когда мы ссорились с Сельмой, я читал ради развлечения, за пивом, эту книгу, в которой учитель, помимо истории собственной жизни и жизни своих знакомых из Гебзе, рассказывал о знаменитостях, а также об исторических зданиях городка. Потом я рассказывал о ней некоторым коллегам с факультета, но все они в один голос твердили мне: нет, совершенно невозможно, чтобы в Гебзе находились такие документы! Я замолкал, а они мне доказывали, что в Гебзе не может быть даже архива.
Мне гораздо приятнее работать в таком месте, в существование которого не верят специалисты, чем работать в Архиве аппарата премьер-министра вместе с завистливыми коллегами. Я с удовольствием перебираю истрепанные, помятые, покрытые желтыми пятнами и плесенью листки бумаги, вдыхая их запах. Мне кажется, что, по мере того как я читаю, я словно бы вижу людей, чьи жизни привязаны к тому, что здесь написано, которые писали или приказывали писать эти бумаги. Возможно, я пришел в архив именно ради удовольствия видеть этих людей, а не для поисков упоминаний о чуме, которые, как мне казалось, я видел в прошлом году. По мере того как читаешь кипы поблекших бумаг, они начинают расступаться перед тобой. Подобно тому как после долгого морского путешествия туман, от которого вы задыхались всю дорогу, рассеивается и внезапно показывается кусочек суши, изумляя вас каждым своим деревцем, камнем и птицей, так и в моем сознании, пока я читаю, из бумаг, постепенно расступающихся передо мной, внезапно появляются миллионы переплетенных жизней и историй. И тогда я очень радуюсь и решаю, что история – это и есть красочный и полный жизни образ, что оживает в моем сознании. Если меня попросят сказать, что это за образ, я не смогу. А потом он исчезает, оставив после себя странное ощущение. И мне делается страшно, что я никогда больше не увижу этот мимолетный образ, и мне хочется все время думать о нем. Я пытаюсь опять найти его, покурив, но, черт возьми, в архивах обычно и курить запрещено.
Читая один судебный реестр, я подумал, что, возможно, смогу опять увидеть этот образ, если буду записывать то, что читаю. Я стал писать в тетради, которую принес с собой в сумке. Некто по имени Джеляль жалуется, что Мехмет его оскорбил. Обозвал его шарлатаном! А в присутствии кадия все отрицает! У Джеляля есть свидетели, по имени Хасан и Касым, которые подтверждают: «Да, обругал!» Кадий позвал Мехмета разъяснить дело под присягой. Мехмет не смог. Дата этого случая стерлась, и я не смог записать его. Затем я прочитал и записал о том, что некто по имени Хамза назначил себе опекуном Абди. После этого я записал, как был пойман один раб русского происхождения по имени Дмитрий. Было установлено, что его хозяином является Вели-бей из Тузлы, и Дмитрия решили вернуть ему. Еще я прочитал о том, что случилось с пастухом Юсуфом, оказавшимся в тюрьме потому, что он потерял корову. Говорит, не продавал корову и не резал. Потерял, говорит. В конце концов его брат Рамазан поручился за него, и он вышел из тюрьмы. После этого я прочитал один ферман. Почему-то было приказано, чтобы некоторые корабли, груженные пшеницей, шли прямо в Стамбул, не заходя в порт Гебзе, в Тузлу или в Эскихисар. Некто по имени Ибрагим сказал: «Если я не отправлюсь в Стамбул, то моя жена получит полный развод»[22]. В Стамбул он не поехал, и его жена, Фатьма, сказала, что совершенно свободна. Ибрагим возражает, что пока не ездил в Стамбул, но поедет, а в клятве своей никакого срока не указывал. Вслед за тем я попытался выяснить размер некоторых сданных в аренду вакуфных[23] земель, глядя на количество акче[24] в записях, но точного результата получить не смог. Одновременно я записал к себе в тетрадь, каков будет совокупный годовой доход от мельницы, огорода, сада и оливковой рощи. Когда я переписывал все это к себе в тетрадь, мне показалось, что я вижу эти земли, но, наверное, я обманывался. Потом я еще прочитал о нескольких кражах и, решив, что ничего не могу увидеть, вышел из архива.