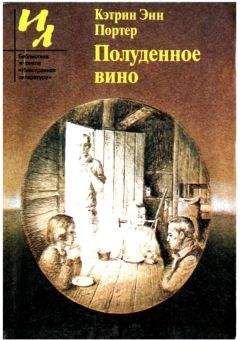— Ах, ты фсе такое гофоришь, гофоришь. Фот когда-нибудь пастор слушает и станет сильно сердитый. Что будем делать, если откажется крестить детей?
— Дай ему хороший деньги, он будет крестить, — крикнул папаша Мюллер. — Фот уфидишь.
— Ну, ферно, так и есть, — согласилась мамаша Мюллер. — Только лучше он не слышать!
Тут разразился шквал немецкой речи, ручки ножей застучали по столу. Я уж и не пыталась разобрать слова, только наблюдала за лицами. Это выглядело жарким боем, но в чем-то они соглашались. Они были едины в своем родовом скептицизме, как и во всем прочем. И меня вдруг осенило, что все они, включая зятьев, — один человек, только в разных обличьях. Калека служанка внесла еще еду, собрала тарелки и, прихрамывая, выбежала вон; мне казалось, в этом доме она — единственная цельная личность. Ведь и я сама чувствовала, что расчленена на множество кусков, я оставляла или теряла частицы себя в каждом месте, куда приезжала, в каждой жизни, с которой соприкоснулась, а тем более со смертью каждого близкого, уносившего в могилу толику моего существа. А вот служанка — эта была цельной, она существовала сама по себе.
Я с легкостью пристроилась где-то на обочине мюллеровского обихода. День Мюллеров начинался очень рано, завтракали при желтоватом свете лампы, и серый влажный ветер по-весеннему мягко веял в открытые окна. Мужчины проглатывали последнюю чашку дымящегося кофе уже стоя в шляпах, запрягали лошадей и на заре выезжали в поле. Аннетье, перекинув толстого младенца через плечо, ухитрялась одной рукой подмести комнату или убрать постель; день не успевал еще заняться, а она, бывало, уже со всем по дому управилась и идет во двор ухаживать за курами и поросятами. Но то и дело возвращается с корзиной только что вылупившихся цыплят — жалких комочков мокрого пуха, — кладет их на стол у себя в спальне и весь первый день их жизни с ними нянчится. Мамаша Мюллер гигантской горой передвигалась по дому, отдавая распоряжения направо и налево; папаша Мюллер, оглаживая бороду, зажигал трубку и отправлялся в город, а вдогонку ему неслись напутствия и наставления мамаши Мюллер касательно домашних нужд. Он будто и не слышал их, во всяком случае, не подавал виду, но когда через несколько часов возвращался, выяснялось, что все поручения и распоряжения выполнены в точности.
Я стелила постель, убирала мансарду, и тут оказывалось, что делать мне совершенно нечего, и тогда, чувствуя свою полную бесполезность, я скрывалась от этой вдохновенной суеты и шла на прогулку. Но покой, почти мистическая неподвижность мышления этого семейства при напряженной физической работе мало-помалу передавались мне, и я с молчаливой благодарностью чувствовала, как скрытые болезненные узлы моего сознания начинают расслабляться. Было легче дышать, я могла даже поплакать. Впрочем, через несколько дней мне уже и не хотелось плакать.
Как-то утром я увидела, что Хэтси вскапывает огород, и предложила помочь ей засеять грядки; Хэтси согласилась. Каждое утро мы работали на огороде по нескольку часов, и я, согнувши спину, жарилась на солнце до тех пор, пока не начинала приятно кружиться голова. Дни я уже не считала, они были все на одно лицо, только с приходом весны менялись краски да земля под ногами становилась прочнее — это выпирали наружу набухшие сплетения корней.
Дети, такие шумные за столом, во дворе вели себя смирно, с головой уйдя в игры. Вечно они месили глину и лепили караваи и пирожки, проделывали со своими истрепанными куклами и изодранными тряпичными зверями все, что положено в жизни. Кормили их, укладывали спать, потом будили и кормили снова, приобщали к домашней работе и стряпали вместе с ними новые караваи из глины; или впрягались в свои тележки и галопом неслись за дом, под сень каштана. Тогда дерево становилось «Турнферайном»[11], а они снова превращались в людей: важно семенили в танце, запрокидывая воображаемые кружки, пили пиво. И вдруг, чудом снова обернувшись лошадьми, впрягались в тележки и неслись домой. Когда их звали к столу или спать, они шли так же послушно, как их куклы и тряпичные звери. А матери опекали их с бессознательной терпеливой нежностью. С истовой преданностью кошек своим котятам.
Иногда я брала предпоследнего — двухлетнего — младенца Аннетье и везла его в коляске через сад, ветви которого покрылись бледно-зелеными побегами, и немного дальше по проулку. Потом я сворачивала на другую, более узкую аллейку, где было меньше колдобин, и мы медленно двигались между двумя рядами тутовых деревьев, с которых уже свисало что-то вроде волосатых зеленых гусениц. Ребенок сидел, укутанный во фланель и пестрый ситец, его раскосые голубые глаза сияли из-под чепца, а лучезарная улыбка обнаруживала два нижних зуба. Иногда другие дети тихо шли за нами. Когда я поворачивала назад, они тоже послушно поворачивали, и мы возвращались к дому так же степенно, как пускались в путь.
Узкая аллейка, оказалось, вела к реке, и мне нравилось гулять здесь. Почти каждый день я шла по опушке голого леса, жадно высматривая признаки весны. Как ни малы, как ни постепенны были перемены, а все же однажды я заметила, что ветви ивы и ежевичные побеги разом покрылись мелкими зелеными точечками; за одну ночь — или мне так показалось? — они стали другого цвета, и я знала, что назавтра вся долина, и лес, и берег реки мгновенно оперятся золотом и зеленью, струящейся под весенним ветерком.
Так оно и случилось. В тот день я задержалась на речке до темноты и шла домой по болотам; совы и козодои кричали у меня над головой странным нестройным хором, и где-то далеко-далеко им отвечало смутное эхо. В саду все деревья расцвели светлячками. Я остановилась и, пораженная, долго любовалась ими, потом медленно двинулась дальше — ничего прекраснее мне никогда не приходилось видеть. Деревья только что зацвели, и под тонким покровом ночи на неподвижных ветвях гроздья цветов дрожали в беззвучном танце слегка раскачивающегося света, кружились воздушно, как листья под легким ветерком, и размеренно, как вода в фонтане. Каждое дерево расцвело этими живыми пульсирующими огоньками, неверными и холодными, точно пузырьки на воде. Когда я открывала калитку, руки мои тоже светились отблесками фосфорического сияния. Я обернулась — золотистое мерцание не исчезло, это не был сон.
В столовой Хэтси на коленях мыла тяжелой тряпкой пол. Она всегда его мыла поздно вечером, чтобы мужчины своими тяжелыми сапогами не наследили и утром пол был безукоризненно чистым. Повернув ко мне молодое, оцепеневшее от усталости лицо, она громко позвала: — Оттилия! Оттилия! — и не успела я открыть рот, как она сказала: — Оттилия покормит вас ужином. Все готово, ждет вас. — Я попыталась возразить, что не голодна, но она настаивала: — Нужно есть. Немного раньше, немного позже — не беда. — Она села на корточки и, подняв голову, глянула за окно, в сад. Улыбнулась, помолчала и сказала весело: — Вот и весна пришла. У нас каждую весну так бывает. — И снова нагнулась, окуная тряпку в большое ведро с водой.
Калека служанка, едва не падая на скользком полу, принесла мне тарелку чечевицы с сосисками и рубленую красную капусту. Все было горячее, вкусное, и я взглянула на нее с искренней благодарностью — оказывается, я проголодалась. Так, значит, ее зовут Оттилия? Я сказала: — Спасибо! — Она не может говорить. — Хэтси сообщила об этом как о чем-то обыденном. Измятое темное лицо Оттилии не было ни старым, ни молодым, просто его вдоль и поперек бороздили морщины, не имеющие отношения ни к возрасту, ни к страданиям; обыкновенные морщины, бесформенные, потемневшие — словно бренную плоть скомкал безжалостный кулак. Но и на этом изуродованном лице я увидела те же выступающие скулы и косую прорезь бледно-голубых глаз; зрачки были огромные, напряженно-тревожные, будто она заглядывала в пугающую тьму. Поворачиваясь, Оттилия сильно ударилась о стол, ее иссохшие руки ходили ходуном, согнутая спина дрожала — и с бессмысленной поспешностью, словно за ней гнались, бросилась вон из комнаты.
Хэтси снова приподнялась с колен, откинула назад косы и сказала:
— Вот такая у нас Оттилия. Теперь она уже не больна. Она такая, потому что маленькой очень болела. Но работать она может не хуже меня. Она стряпает. Только говорить понятно не умеет.
Хэтси встала на колени, согнулась и опять принялась усердно тереть пол. Вся она была словно сплетение тонких, туго натянутых связок и прочных, точно гибкая сталь, мышц. Она весь свой век будет работать до седьмого пота, и ей даже в голову не придет, что можно жить иначе; ведь все вокруг всегда работают, потому что впереди еще уйма дел. Я поужинала, отнесла тарелку и поставила на стол в кухне. Оттилия сидела на табурете, сунув ноги в открытую топку погасшей печки; руки у нее были сложены на груди, голова покачивалась. Она не видела и не слышала, как я вошла.